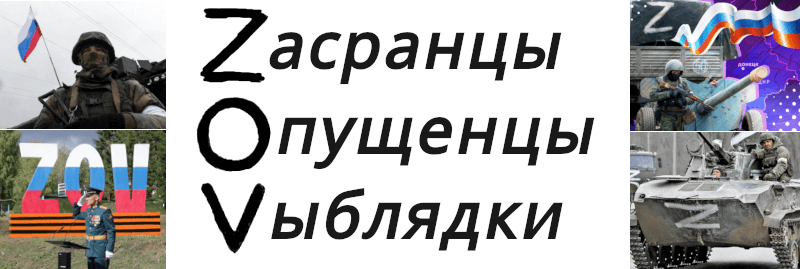Боль так приятна. Наука и культура болезненных удовольствий / Ли Коварт (№108)
Книга посвящается моим товарищам-мазохистам и К. Г. К., который знал, что во мне это есть
© 2021 by Leigh Cowart
© А.О. Мороз, перевод, 2022
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022
Отзывы о книге
Коварт бесконечно сострадает людям, которые хотят найти смысл жизни, запертые в своих бренных мешках с костями. «Боль так приятна» – смешная, откровенная и, как ни странно, полезная книга.
Кейтлин Доути, автор книги «Съест ли мой кот мои глазные яблоки?»
Книга о боли вышла такой светлой, табуированная тема получила такое яркое и живое освещение, а переживания, которые должны вызывать мурашки, заставляют рассмеяться и поражают глубиной – все это говорит о мастерстве и обаянии Ли Коварт. «Боль так приятна» – победа парадоксов, аргументированная, смешная и бесконечно увлекательная точка зрения на мир, который большинство из нас знает, но мало кто понимает.
Эд Йонг, лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Я заключаю в себе множество»
Можно ли понять самих себя, если понять, что такое боль, – а точнее, почему люди ищут боли? До прочтения книги «Боль так приятна» я так не думала, но теперь мой ответ – да. Мне стало интересно, почему такую книгу никто не написал, и ответ таков: потому что только Ли Коварт могла ее написать. Это глубокая, потрясающе написанная книга, в которой раскрывается так много о человеческих желаниях, о принуждениях, ущербе и блаженстве. Если и существует великая американская научно-популярная книга, то перед вами именно она.
Джесс Циммерман, автор книги «Женщины и другие чудовища»
Тщательно исследуя распространенные сексуальные практики, Коварт ловко сочетает мемуары с исследованиями и наблюдениями и смело делится суровыми подробностями о собственном теле, которое жаждет ощущений. Книга актуальна для всех, кто стремится понять, в каких он отношениях с телом. Обязательное чтение для тех, кто пытается найти объяснение сложным отношениям с болью.
Стоя, писательница и порнограф
«Боль так приятна» – игра, в которой Коварт сплетает изучение боли ради удовольствия и свои личные, маниакальные телесные переживания. Последние сцены описаны очень живо: кровь, кишки, экскременты, распухшее или замерзшее тело; временами кажется, что читатель не осмелится дочитать книгу Коварт до конца. Но дочитать ее нужно, ведь лучшего исследования того, чем привлекателен мазохизм, не найти.
Илон Грин, автор книги «Последний звонок: правда о любви, похоти и убийстве в странном Нью-Йорке»
Введение
– У нас будут гости. Лучше пойдем в сарай, – говорит он.
Всего несколько часов назад я плакала на парковке у магазина тканей, стремительно скатываясь в знакомое уныние сезонной депрессии; но сейчас я бодра и взволнована. Я следую за ним босиком сквозь высокую мокрую траву по исхоженной тропинке двора. Он включил обогреватели во флигеле, подготавливаясь к моему приходу: трогательный жест, но и возбуждающий. Он знает, как я ненавижу холод, и раз уж мы оказались здесь, потому что я попросила сделать со мной нечто ужасное, тот зловещий факт, что я нахожусь в тепле, не остается незамеченным.
Я не знаю, что меня ждет, кроме боли. Я завожу ногу за ногу. Он весел; я что-то щебечу. У нас было приятное свидание, в котором участвовала его мама и едва приготовленный немецкий фаст-фуд, а затем кофейные коктейли в освещенном красным светом баре навынос у реки. Моя кожа немного согрелась после того, как я покурила на кухне. Он расстегивает молнию у меня на платье. Я переступаю через черную ткань, и он осторожно снимает с меня очки и лифчик. Трусики размером с почтовую марку остаются на мне. Все дело в мелочах.
У меня завязаны глаза, я лежу в старом гинекологическом кресле, ноги закованы в холодные и грозные кованые стремена. Я привязана к креслу за шею и под грудью. От тугих веревок накатывает паника и мне не хватает воздуха, поэтому я делаю дыхательные упражнения, пока он натягивает промышленные резинки мне на руки и на ноги. Я дышу неглубоко, учащенно; в предвкушении немного кружится голова. Сейчас у меня много адреналина – от ужаса. Талантливый хозяин моих ощущений культивирует это чувство.
Он начинает щелкать резинками. Верхняя часть правого бедра. Внутренняя сторона левого бедра, прямо у трусиков. С наружной стороны ног, по бокам рук. По швам моего тела. Сначала меня охватывает волна новых ощущений, но вскоре я отдаюсь реальности боли. Хныканье переходит в крик, и он связывает мне руки застежками на молнии. Я слишком много двигаюсь.
Теперь он начинает действовать. Резинки бьют больно; я вижу оранжевое и белое на внутренней поверхности век. В одном месте на руке мне очень больно, и всякий раз, когда он щелкает по нему резинкой, я издаю жалкий звук, будто это совсем не я хотела услышать, как ломается мой голос между терпимой эротической болью и настоящей физической агонией. Завтра на этой руке будет синяк.
Мой мозг находится целиком во власти момента: как будто воздушный шарик заполняет все пространство в черепе, а в шарике – одна-единственная мысль. Когда вы в последний раз думали и чувствовали что-то одно? Одну-единственную мысль.
Только.
Одну.
Единственную.
Мысль.
Я рыдаю в повязку на глазах, а он рукой доводит меня до оргазма, я продолжаю плакать, а он уже снова щелкает резинками, у меня кружится голова, потому что я выгибаю свою тощую шею. Включается вибратор Hitachi, и он заставляет меня кончать снова и снова так, что это превращается в агонию. Я извиваюсь, но не могу сдвинуться с места. Это слишком, слишком, слишком сильно.
Как только он снова переходит к резинкам, я уже хочу вернуться обратно к предыдущему ощущению. Все это длится какое-то неопределенное время, то одно, то другое: принудительные оргазмы сменяются жгучей болью. Вероятно, на полу образовалась лужа, а мои бедра покрыты широкими, обжигающими рубцами. Когда он прижимается всем телом к моим раскрытым ногам, это приносит облегчение; так я могу вытерпеть больше боли. Его тело – заземляющий провод.
Я вся мокрая от пота и длительного терпения; есть только я и он, и одна мысль: боль. Продолжая щелкать широкими резинками по моей розовой коже, он доводит мощность Hitachi до максимума; теперь это грубый инструмент. Он засовывает пальцы мне в вагину, жестко трахает рукой. Я корчусь на столе. Все болит, тело скользит и распухло; он склоняется надо мной, приникнув ртом к моему уху, нарушает тишину жестоким смехом:
«Тебе достаточно ощущений, дорогуша?»
Я кончаю, его рука еще во мне. Кажется, я сейчас умру. Все вокруг стихает. Тело звенит, как колокол; стрекот сверчков возвращает меня в помещение.
Он разрезает молнии и освобождает меня из кресла, снимает резинки с легким игривым щелчком. Снимает повязку с моих глаз. Он стоит надо мной. Я смотрю в его большие, прозрачные глаза и ловлю его взгляд на секунду, а потом он целует меня. Он гладит мои волосы. Мы улыбаемся, я прижимаюсь мокрым лицом к его соленой бороде.
Вот так я делала себе плохо, чтобы потом стало лучше.
Как вы представляете себе мазохиста?
Это шестидесятилетний венчурный капиталист, весь в смазке, в латексном костюме горничной, с маленькой задницей, которая трепещет, пока его госпожа размахивает хлыстом? Или милая и робкая Анастейша Стил из «Пятидесяти оттенков серого», которая участвует в принудительном насилии, мало похожем на здоровый БДСМ по обоюдному согласию? А может, это я в сарае?
Может быть, вы представляете марафонца, который пробегает безбожный километраж в знойный летний день, потом останавливается, чтобы проблеваться в кустах гортензии перед детской площадкой с любопытными малышами, и упорно движется к далекой финишной черте? Или любителя острого перца, который сквернословит перед тарелкой карри, с красным лицом и капельками пота на лбу? Когда я говорю «мазохист», вы видите человека, с головы до ног покрытого татуировками, его лицо все в металлических шипах и серебряных кольцах? Или тех, кто прыгает в ледяную воду в разгар зимы и шлепает друзей по заду, чтобы вступить в специальный клуб? (Да-да, я имею в виду вас, любители дедовщины.) А как же те, кто кусает ногти до крови? Как насчет сайд-шоу? А балерины? Боксеры? Клоуны на родео? Вы сами?
Видите закономерность? Все эти люди сознательно выбирают боль. Почему они это делают, учитывая, скольким можно пожертвовать для комфорта и избегания боли? Как вы думаете, что они получают, стремясь к боли?
Здесь, во вступлении, – и во всей книге, которую я предлагаю вашему вниманию, – я хочу сказать, что мазохизм может быть связан с сексом, но это не всегда так. В действительности страдание ради удовольствия часто совсем не связано с нашими гениталиями. И хотя современное слово, обозначающее «страдание ради удовольствия», обязано «стояку» одного австрияка родом из XIX века (см. главу 5), в реальности это понятие гораздо шире. Возможно, секс является тем проходным наркотиком, который заставляет нас говорить о мазохизме, но мазохизм гораздо больше, чем секс.
Сегодня, используя слово «мазохист», я описываю нечто универсальное, безвременное, общечеловеческое: сознательный выбор почувствовать себя плохо, чтобы потом стало лучше. Испытать боль. Люди давно применяют эту тактику, соглашаясь на страдания, чтобы потом насладиться биохимической реакцией облегчения, которая следует за болевыми стимулами. В этом нет ничего странного. И это не редкость.
Понятие мазохизма, человеческой привычки чувствовать себя плохо, чтобы стало лучше, не является ультимативным: в действительности это скорее спектр или даже несколько спектров. Если ультрамарафонцы – мазохисты, что можно сказать о простых марафонцах? В конце концов, они тоже могут обделаться на бегу и постоянно стирают ногти на ногах. Если участники клубов моржевания – мазохисты, то как назвать тех, кто плавает в холодных бассейнах коммерческих саун? Разве обливаться ледяной водой, принимая душ, – это мазохизм? Если танцы на пуантах – мазохизм, то как насчет занятий танцами на шесте, которые оставляют синяки под нежными коленными чашечками? А ролевые игры с мягким оружием, которое делает больно, но не причиняет вреда?
Не будет преувеличением сказать, что все эти занятия и причины для них могут иметь нечто общее. В конце концов, все мы управляем схожими версиями одного и того же бренного мешка с костями. Человеческий опыт не существует вне тела; эмоции, как и дыхание, имеют физическую основу. Они приходят изнутри, так же как мысли, пердеж и разнообразные запахи. И когда вы, я или кто-то другой играем с болью, мы в некотором смысле используем миллионы лет эволюции для своего рода биохакинга. Мы делаем себя лучше, сначала чувствуя себя дерьмово. Это весело; вполне возможно, что вам понравится.
С моей точки зрения, мазохизм – человеческое поведение, которое лишь изредка имеет отношение к сексу. Я не стану отрицать, что сексуальный мазохизм – одна из моих любимых его граней. Но! Как мы узнаем, мазохизм есть повсюду. Например, давайте начнем с одного из самых радикальных примеров мазохизма: ультрамарафонцы. Думаю, никто не будет спорить с тем, что пробежать триста километров без остановок даже на сон – настоящий мазохизм. Предполагается, что человек, который участвует в таком грандиозном мероприятии, как многодневный марафон в пустыне, должен что-то получить за свои страдания. И это, разумеется, не всегда деньги. Хотя в некоторых ультрамарафонах введены денежные призы, они еще не стали обычным явлением в этом виде спорта (хотя это может измениться). Например, в Big Backyard Ultra – гонке до последнего участника, которую многие считают самой садистской в мире, – вообще нет призов, только жетоны за участие. Люди совершают огромный подвиг ради самого опыта. Доводя тело до предела, рискуя ослепнуть от пыли и тщетно пытаясь поесть, на базовом уровне ультрамарафонцы стремятся к боли. Полагаю, они что-то получают взамен (вы сможете убедиться в этом в главе 8). Иначе зачем бежать? Должна быть какая-то награда. Это кажется парадоксальным, но в книге я покажу, как это работает. Прочитав ее до конца, вы увидите, что все виды боли ради удовольствия в самом деле очень похожи.
Если говорить обо мне, то мой личный опыт мазохизма зачастую не был сексуальным. Я была балериной, переживала физические перегрузки, страдала булимией, занималась самоповреждением, делала татуировки и работала научной журналисткой. Я использовала мазохистские наклонности для личной и профессиональной выгоды, а также для того, чтобы причинять себе боль, хотя сейчас я использую мазохизм в основном для развлечения, в частности при написании книг. Все эти принудительные действия объединяет то, что я сознательно использовала тело, особенности физиологии и чувствовала себя плохо, чтобы потом стало лучше. Я выбираю страдание, чтобы получить очень специфическое вознаграждение. Эндорфины – тот еще наркотик.
Когда я говорю о мазохизме и страдании, я имею в виду не все виды страдания. Важнейшим принципом мазохизма является то, что он всегда должен быть по обоюдному согласию. Если это не так, то это не мазохизм. И точка. В моей книге я не говорю о страдании вообще. Страдание охватывает гораздо более широкий спектр человеческого опыта. Если нельзя не страдать, то это не мазохизм. И никогда не будет. Человек, который сам выбирает бежать, превозмогая боль, или поднимать огромные тяжести, пока его мышцы не станут лопаться, – мазохист. Человек, которого заставляют делать что-то против его воли, – пленник или раб. Это не значит, что нельзя обрести смысл в страданиях, на которые человек не давал явного согласия (в конце концов, многие люди так поступают); но я утверждаю, что удовольствие от боли без обоюдного согласия – это скорее механизм преодоления, а не настоящий мазохизм, который требует выбора, согласия и автономии.
Тем не менее многие люди применяют принципы мазохизма к страданиям для своего рода биохакинга – возможно, чтобы сделать переживание более терпимым. В конце концов, боль тесно связана с системой, которая обеспечивает нас прекрасным домашним морфием.
Основная идея мазохизма, о котором я говорю, заключается в том, что мазохист всегда может прекратить страдания, которые решил себе причинить. Ультрамарафонец может остановиться. Участник соревнования по поеданию перца чили может отказаться от следующего перчика, хотя, как мы увидим позже, воздействие перца на желудок уже не остановить. Во время БДСМ-сессии человек может произнести стоп-слово. Возможность контролировать сессию и в любой момент остановиться – отличительная черта мазохизма, и ее невозможно переоценить. Если БДСМ-сессия продолжается после того, как было произнесено стоп-слово, это уже насилие. Если человек продолжает бежать против воли, это пытка. Пусть не остается никаких сомнений в том, что страдания, о которых мы рассказываем в этой книге, причиняются только по обоюдному согласию и под контролем тех, кто их запрашивает или осуществляет.
Теперь, когда этот вопрос совершенно, кристально ясен, я хочу показать вам, что мазохизм – причинение боли своему телу – окружает нас, он есть повсюду: в спортзалах, в ресторанах и на зимних пляжах. Это придает сил и пугает, это полезно и опасно. Преодолевать границы и ощущать вкус жизни; жевать порез на губе до тех пор, пока во рту не появится привкус железа, – все это каким-то образом помогает нам чувствовать себя лучше. Короче говоря, мазохизм есть повсюду. Тогда почему мы не говорим о нем?
Удивительно, что доступная литература о таком захватывающем и разнообразном явлении, как мазохизм, крайне скудна. За время исследования я перечитала множество увлекательных мемуаров и сухих научных томов. Яркие романы издательства Harlequin в мягких обложках. Научные работы со скоропостижными выводами, не отделяющие зерна от плевел, хотя эта тенденция медленно меняется. Добрые и искренние БДСМ-блоги, восхваляющие достоинства сабспейса и техники безопасности; блоги, которые действительно выполняют работу самого Господа Бога, когда речь идет о распространении здорового секса в массы. Но в промежутке практически ничего нет. Многие из написанных трудов не имеют нужного охвата материала: не показан более многогранный спектр страданий ради удовольствия, слишком много жаргона, солипсизма, специфики, чтобы понравиться широкому кругу читателей.
Но мазохизм – куда более широкое явление. Сексуальное, общечеловеческое, порицаемое, боготворимое и порой причудливое. Для балерин, танцующих на сломанных костях, цирковых артистов, проводящих электрический ток через гвозди в носу, едоков, уничтожающих перчики с растущим индексом Сковилла, – мазохизм является частью жизни. Это люди, которые стали каскадерами, потому что синяки помогают им чувствовать себя сильнее. Это люди, которые страдают от хронических болей и решают обрести автономию от своего тела, сознательно предаваясь физическому насилию. Это шоу Jackass и религиозная флагелляция. Мазохизм прячется в трудоголиках, любителях пирсинга и разнообразных искателях боли.
Однако страдание в погоне за удовольствием заложено в системе, которая избегает его обсуждения. Душные психиатры, отягощенные специфической близорукостью богатых белых парней, долгое время называли мазохизм патологией; но он гораздо интереснее, чем простые фантазии для мастурбации, которые нас к нему влекут. Мир мазохизма населяют лучшие и страннейшие из людей: по самым разным причинам они совершают такие поступки, как массовый пробег через пустыню или прыжки в ледяной океан, поедание острого соуса, пока не запросят пощады; они умоляют любящих партнеров лупить их до тех пор, пока они не станут кричать стоп-слово, умываясь слезами.
По своей сути мазохизм – это сознательный выбор боли. По моему опыту, часто причина этому – желание почувствовать себя плохо, чтобы потом стало лучше. Я считаю, что этот феномен – конструирование ситуаций, в которых человек страдает, чтобы получить гарантированное облегчение, – достоин нежного, сердечного исследования с чувством юмора. Я знаю: потому что я заядлая мазохистка, ищущая острых ощущений. Я научный репортер. И у меня есть несколько вопросов.
Первый вопрос, тихий и настойчивый, с которого началось мое путешествие, был очень простым: «Почему я такая?» Почему мне нравится боль, что я от нее получаю? Немного странно получать удовольствие от того, что любимый человек бьет меня кулаком в челюсть, поэтому я решила немного раскрыть этот вопрос. Скажу прямо: если бы ответы, которые я нашла, касались только меня, они бы остались в тайном дневнике, а не стали частью этой книги. Но как только я начала искать, то обнаружила мазохизм повсюду. Внезапно вопросы стали касаться не моих личных странностей и привычек, а людей в целом. Я оказалась совсем не одинока в своих наклонностях. Поэтому мои вопросы стали шире.
Почему люди занимаются мазохизмом? Каковы его преимущества: социальные, психологические, физиологические? Каковы издержки? Кто этим занимается и почему мы такие? Что мазохизм может сказать о человеческом опыте? Я собираюсь взять вас в путешествие, чтобы вместе найти ответы на эти вопросы – через строгий научный репортаж, любопытные и откровенные интервью, а также через призму моего личного опыта.
Посмотреть на изнурительный финал ультрамарафона до последнего участника, который многие считают худшим ультрамарафоном в мире (утверждение, близкое к абсурду по своей избыточности). Увидеть последствия соревнования по поеданию острого перца в его свекольно-красной агонии. Понаблюдать за мной, воющей идиоткой, которая бежит в ледяной зимний океан, притом что холод – мой самый нелюбимый способ страдать. Заглянуть внутрь человеческого мозга, чтобы узнать, как производится ощущение боли, и посмотреть, как наше тело помогает нам чувствовать себя лучше. Мы встретимся с цирковыми артистами, с учеными, изучающими боль, с фетишистами, с подвешенными, с едоками перца мирового класса и с балериной, ставшей тайской боксершей. Мы свернемся калачиком под рассказы профессионалов БДСМ о специальных пытках для достижения блаженного облегчения. Мы увидим людей, которые выбирают боль, и будем за ними наблюдать. Внимательно.
Эта книга исследует весь спектр человеческого мазохизма, его причины и то, чему мы можем научиться, выбирая страдания. Может быть, вы занимаетесь этим. Может быть, нет. Но все любят смотреть.
Глава 1
Вверх-вниз
Сара Лондон поднимает красивое лицо и смотрит на меня в объектив, демонстрируя для фотосессии слюнявую капу. Белый пластик с розовыми розочками; на капе курсивом выведено: «Сучка, ну пожалуйста, не надо». Слова неуклюже расставлены на мягком формованном пластике, закрывающем зубы Сары. Она говорит, что во время первого боя, который она проиграла, более опытная соперница сильно ее избила и капа наполнилась кровью. Еще несколько секунд назад, в интимной атмосфере спарринга, в мириадах сопутствующих запахов, она смеялась и визжала «Нет!», когда кто-то тяжело опрокинул ее на мат.
– Мне плевать, если попадут в лицо, – говорит она с хитрой улыбкой. – Я против синяков на теле. Но не на лице.
Разные люди переносят боль по-разному.
Сара занимается тайским боксом. Когда-то мы вместе учились балету, но сейчас я удобно устроилась на горке из шлакоблоков в подвальном помещении в Восточном Нэшвилле и наблюдаю за ее спаррингом. Мы больше не танцуем. Очевидно, мы обе нашли новый способ тревожить наши старые раны.
Я пришла повидаться с Сарой, потому что рассказывать о моих отношениях с мазохизмом невозможно, не вспомнив десятки лет в балете. Эти воспоминания – все равно что заросли ежевики, сквозь которые я пробираюсь босиком: больно, хотя есть в этом и свое удовольствие. Хочется обильно сквернословить, что уж там. Когда я спросила у Сары, не скучает ли она по балету, она молниеносно и недвусмысленно сказала «нет».
Мир балета, в моем понимании, был чрезвычайно жестоким, морально и физически, как круги замалчиваемого ада. Я провела годы, изнемогая от усталости и голода, в вечной борьбе с бедным, измученным телом, у которого решительно отказывалась уменьшаться грудь, независимо от того, какой миниатюрной я была в целом. Вспоминать о тех днях крайне неприятно, хотя страдания нисколько не повлияли на мою преданность искусству. Наоборот, это укрепило мою решимость. Балет захватил мое детство и юность; ежедневные многочасовые занятия танцами уступили место балетным классам в старших классах школы. Все лето я проводила на недельных интенсивах. Танец поглощал меня, как ничто другое. Я любила его отчаянно. Сара тоже, я это знаю.
Сейчас я вспоминаю об этом, потому что пытаюсь найти ответ на риторический вопрос: почему я такая? Почему мне нравится боль? И конкретнее: это балет превратил меня в мазохистку? Или я уже хорошо подходила для изнурительной дисциплины этой формы искусства, благодаря характеру, туманному «я», которое становится плотным и обретает имя в детском саду? (Оба предположения могут быть верны, и мое нутро подсказывает, что ответ на оба этих вопроса – да.) Если говорить о моих сложных отношениях с болью, то раньше я чувствовала стыд из-за того, что я особенная и это только моя проблема, но теперь это не так. Теперь я вижу, что специально причинять себе боль, чтобы улучшить самочувствие, вовсе не оригинально. Боль присутствует повсюду: в бутылке с острым соусом, в ледяном бассейне, на жестком полу в студии, и, конечно, она витает в воздухе в зале MMA в Нэшвилле, где Сара колошматит своего парня и получает от него удары в грудь. Написав эту книгу, я, по крайней мере, научилась не считать себя особенной. Воистину, хорошее утешение.
Желание причинять себе боль отчасти обусловлено общей биологией здорового человека. По большей части наши тела одинаково чувствуют и обрабатывают болевые сигналы: однообразие этой механики можно передать универсальным словом «ой». Это происходит примерно так: если человек стоит на пуантах, весь вес его тела приходится на кончики пальцев, и тело подает сигнал тревоги. Точно так же, если человек получает удар тренированной голенью по внешней части бедра (ноги Сары протестующе краснеют) – тело реагирует и делает это отчетливо. Нервная система срабатывает сильно и четко, нервные клетки, называемые ноцицепторами, передают в мозг сигнал тревоги – электрический ток, сообщение, которое молниеносно проходит по нашему сенсорному аппарату, как по мокрым проводам. В ответ мозг должен, учитывая контекст сигнала, быстро написать симфонию боли, которая зависит от таких вещей, как эмоциональное состояние, уровень удивления и история попадания в схожие ситуации. Далее организм вырабатывает множество сигналов и химических веществ, в том числе собственный морфин, благодаря эндогенной системе. Оказывается, эндорфин – это слияние слов «эндогенный» и «морфин». Наркотик, поступающий изнутри.
Принято считать, что эндорфины вызывают приятные ощущения и приносят кайф. Поэтому, когда я говорю, что мы причиняем себе боль, чтобы нам стало лучше, я имею в виду именно это. Боль приводит к выработке химических веществ, которые повышают настроение, и я, как и многие другие, охотно использую это в своих интересах.
Я наблюдаю, как Сара получает удар коленом в бок, – она вздрагивает и смеется. В остальное время ее лицо – маска спокойствия и сосредоточенности. Она говорит, что над ней подшучивают, потому что она смеется, когда ей больно, но я могу это понять. Нас обеих учили преодолевать боль и получать от нее удовольствие.
Мы с Сарой вместе танцевали еще со школы. Мы обе были напомаженными девочками-балеринами с искоркой озорства в глазах. В классе мы стояли рядом, разводя заднюю часть бедер, чтобы ноги выглядели худыми в зеркале, а на занятиях часами потели и пыхтели. В свободное время от подражания безупречным танцующим роботам мы курили краденые сигареты, а по ночам разучивали слова песен Лудакриса, как все нормальные подростки во время гормональной перестройки.
В культе балета есть нечто такое, что трудно объяснить человеку со стороны. Я могу легко описать, как временами было ужасно: некогда ведущий танцовщик Нью-Йоркского городского балета, пьяница, бросил в меня стул и неоднократно выгонял из класса, потому что ему была противна моя подростковая грудь; директор престижной школы-интерната делал вид, что исключает меня, чтобы посмеяться над моими слезами. Я могу рассказать, как танцовщики падали в обморок от духоты во время летнего интенсива на Манхэттене, а нам говорили убрать их с дороги и работать дальше. Жутким делиться легко.
Но что в этом хорошего? Что заставляло нас возвращаться туда снова и снова? Неосязаемые, трансцендентные вещи, вызывающие привыкание. И в конечном счете в долгосрочной перспективе игра стоила свеч.
На следующий день мы встречаемся с Сарой у спортзала, где она работает, чтобы она отвезла меня в торговый центр на занятие по тайскому боксу. Я иду за ней по коридору, исписанному граффити, ее здоровенная неоново-зеленая сумка со снаряжением заслоняет маленькое, но мускулистое тело, я словно следую за очаровательной черепашкой. Коридор ведет в торговый центр, он почти пустой, работает только магазин товаров для кинсеаньеры1 и зал для тайского бокса «Чонбури». Через две недели торговый центр закроется, и некоторые магазины оставили после себя мусор и просрочку, в спешке покидая его. Туалеты не работают, но я слышу, что фудкорт до сих пор открыт. Я слишком увлечена людьми, которые разминаются в зале на полу, чтобы это проверить. Вдоль стен тренажерного зала выстроились вешалки с остатками одежды из бутика (такие маленькие металлические перекладины, за которые цепляются полки), там же стоит кулер Pepsi, наполненный бутилированной водой, и полупустая двухлитровая кола. Маты имеют форму пазлов и аккуратно прилегают друг к другу.
– Почти как на балете, – говорит она. Ее фиолетовые волосы убраны в высокий хвост. – Разучиваешь связки и получаешь травмы, когда их исполняешь. Все точно так же.
С этими словами она отправляется на разминку со своим парнем, который тоже занимается тайским боксом. Они вдвоем лежат на мате, описывают ногами широкие круги и одновременно распахивают бедра. У них обоих крепкие мышцы, оба сухопарые: это характерно для многих участников сегодняшнего занятия. Когда к нам подходит инструктор Брюс, чтобы представиться, его рукопожатие вызывает у меня тревогу, которая распространяется вверх по руке. Она как деревянная. Новое ощущение. Его рука очень твердая. Когда я говорю об этом Саре, она смеется. Она это знает.
Занятие и вправду очень напоминает балет, с некоторыми отличиями в эстетике. Одежда обтягивающая, но в зале нет зеркал. Брюс называет связки, состоящие не из плие и тандю, а из ударов руками и ногами, и в зале их повторяют в парах: один человек бьет, другой держит колодки, потом они меняются. Все упражнения выполняются в обе стороны, чтобы мышцы развивались одинаково. Связки сменяют друг друга все более интенсивно, сначала их выполняют медленно, затем, после многочисленных выпадов, пота и боли, разбирают новые. Когда ученики разучивают новые связки, они неизбежно проходят период неловкости: их тело учится выполнять необходимые движения, холодно сравнивая их с молниеносностью и грацией инструктора. Знакомая картина неудачи, за которой следует восторг успеха. Ученики четко выполняют задачи, но без монастырской тишины, как в балетном классе. Люди хрюкают и кричат «у-у-у», когда попадают в цель, их лица сосредоточены. Звук удара о колодки невероятно приятен; не сомневаюсь, Сара могла бы одним ударом сломать мне несколько ребер. У нее сводит ягодичные мышцы, и она хмурится, потирая зад рукой, одетой в перчатку. Я смеюсь про себя. Вспоминаю, как она делала то же самое двадцать лет назад перед зеркалом в классах Школы искусств Северной Каролины. Искусство, которому мы посвятили наше детство, и то, что разворачивается передо мной, поразительно похожи. Тайный язык, групповые ритуальные движения, обильное потоотделение: все это вызывает у меня мощную и молниеносную тоску по балетному классу. Только в этом классе нет зеркал. В этом классе дерутся люди.
Я наблюдаю, как Сара отрабатывает связки. У нее талант к точному повторению движений, и она упорная спортсменка; кажется, она как рыба в воде, когда делает выпады, потеет и смеется после сильного удара в плечо. Однако этот смех сопровождает гримаса. Сара останавливается и потирает плечо, морщится, спарринг-партнер ее обнимает. По ходу работы я замечаю в ее движениях отголоски прошлого: как она резко держит вес на пятках, легкие наклоны, которыми она разминает подколенные сухожилия, перекаты через голову – маленькие приметы, которые видны только ее коллегам по танцам. Она легонько бьет ногой по голове гораздо более высокого мужчину, и он улыбается ей. В конце урока они делают закалку, то есть наносят друг другу серии ударов, чтобы стать еще выносливее. Сначала удары наносят по внешней стороне бедер, по мясистой части прямой мышцы бедра. Затем люди поднимают руки, и удары переходят на бока. Брюс называет это «любовные касания». Лица искажаются, пытаясь оставаться неподвижными, словно искривленная губа или сжатая челюсть могут смягчить силу удара голенью по нежной грудной клетке. Боль, чувство исполненного долга, эндорфины, простое удовольствие от культивирования экспансивной силы воли – мне это понятно. Я понимаю, почему талантливая танцовщица может найти себя в боевых искусствах. Как это, должно быть, целительно – выплескивать наружу внутреннюю агрессию балета.
1. Кинсеаньера – в странах Латинской Америки совершеннолетие девочек, символизирующее переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Празднуется в день пятнадцатилетия.
Это так классно выглядит.
Но разве не этого я искала? Сара – живой пример моей интроспекции, размышлений о том, как я попала в балет, почему стала такой. Мы много танцевали после того, как наши пути разошлись, и много работали в балете. Мы обе вышли замуж юными, первый брак был до ужаса скучным и развеялся как дым, едва мы начали приобретать живые очертания и перестали быть автоматами в отключке или овощами, выжившими после балета. Мы обе вышли из балетной школы и нашли способ вернуть в нашу жизнь моменты, которые удерживали нас в балете все эти годы. Параллельное течение нашей жизни, вновь увиденное после двадцати лет молчания, поражает. Я опускаю глаза и вижу, что у меня задрались шорты. Под флуоресцентным светом верхняя часть внутренней поверхности моих бедер кажется желтой и испещрена кольцами пестрых фиолетовых отметин от укусов. Их так много, что хаотичные отметины уже не похожи на следы зубов. Даже после выхода из зала, когда я обнимаю Сару на прощание, я не перестаю думать о том, что нас обеих сформировал балет.
Для меня балет определил многое и, несомненно, помог мне во взрослой жизни найти мазохистские увлечения всех мастей. Я знаю не понаслышке, что танцоры – мазохисты; однако многие люди причиняют себе боль, хотя никогда не сталкивались с блестящими атласными туфлями для пыток и нетерпеливо кричащими русскими женщинами в трико с длинной палкой в руке. В любом случае нет сомнений, что эти блестящие пыточные туфли изменили мою жизнь.
Первую пару пуантов я получила в двенадцать лет. Это был, без сомнения, один из самых долгожданных моментов инициации в моем детстве, источник невероятной одержимости и страстного желания, которое длилось сколько я себя помню, а возможно, даже дольше. В то время как многие дети сосредотачивали чудовищное возбуждение на таких предвестниках полового созревания, как звонкий голос и волоски в секретных местах, меня больше волновал вопрос, когда я получу красивые пыточные туфли, а не когда распустятся бутоны моих грудей. Я стремилась к одной-единственной цели, как маньяк.
Важно не начинать носить пуанты, пока мышцы не окрепнут настолько, что смогут удерживать стопу в стабильном положении; слишком раннее начало занятий на пуантах чревато переломами костей и травмами на всю жизнь. Поэтому я много и часто упражнялась на занятиях и втайне делала releves в своей комнате по ночам, в душе, когда чистила зубы, везде, где только можно, медленно и плавно поднимая и опуская тело, пятки подавались вперед-назад, а икры работали как часы. После восьми лет занятий и отчаянных молитв наконец пришло время. Учитель дал мне благословение, которого я ждала всю свою крошечную жизнь, и я была на седьмом небе от счастья.
Очень важно, чтобы пуанты идеально сидели на ноге, в особенности первая пара. У обычных пуант жесткая колодка (в которую помещаются пальцы ног) сделана из нескольких слоев картона и ткани, проклеенных вместе, как папье-маше. Стелька, твердая нижняя часть туфли, представляет собой кусок жесткой кожи. В остальном обувь похожа на мягкие чешки. Стопы работают внутри туфель, балерины поднимаются и встают на носки, балансируя на больших пальцах, с обрезанными ногтями, строго перпендикулярно полу. (Эта механика движения и необходимость использовать материалы, которые принимают форму стопы, часто являются причинами поломки и необходимости замены пуант, когда они размягчаются.) У этой обуви нет подкладки, перед покупкой к ней не пришивают ни ленты, ни резинки. Снаружи туфли покрыты атласом, и при воспоминании о них я внутренне вздрагиваю – это одна из немногих вещей, которая вызывает у меня настоящую ностальгию по юности.
Эта обувь была моим объектом желания всю чуть более чем десятилетнюю жизнь, и поэтому, хотя я знала, что будет больно, с нетерпением ждала примерки. В конце концов, хорошая посадка помогает сохранить правильную форму ноги. Если обувь прилегает недостаточно плотно, скольжение и мешковатость могут нарушить стабилизацию стопы и привести к травме. Если она слишком тесная, стопа не может встать правильно, и болезненный и часто обезображивающий ногу танец на пуантах становится просто невозможным. Мои учителя говорили, что набойки мешают танцорам чувствовать пол, и тон их голоса подразумевал, что те, кто танцует с набойками, в чем-то хуже нас. Некоторые прикрывают пальцы ног кусочками овечьей шерсти или более современными тонкими гелевыми подушечками. Но я твердо решила, что мне это не нужно. Я заворачивала большие пальцы ног, как в подарочную обертку, в кусочки пластыря, а иногда в квадратики однослойной туалетной бумаги. Как вы можете представить, я была чертовски спокойным ребенком.
Наконец, когда я достаточно окрепла и мои детские кости огрубели, я оказалась в темной подсобке магазина танцевальных костюмов десятилетней давности, рядом с корзиной трико 1980-х годов, у стены с пыльными чечеточными туфлями. Сгорбленная восьмидесятилетняя женщина пригласила меня сесть, затем взяла мои ноги в руки, внимательно изучила их, сделала несколько замеров и скрылась в недрах магазина, чтобы принести нужные коробки.
Снова прищурившись и изучив мои ноги, она попросила меня несколько раз встать на цыпочки. Она наблюдала за мной, оценивая механику моего тела, ничего не говоря, а затем похвалила моего учителя (не присутствовавшего при этом) за то, что он верно оценил мои силы и готовность. Порывшись в одной из коробок, она достала пару нежно-розовых пуантов Chacott Coppelia II и протянула их мне. У меня давление зашкаливало от предвкушения, руки покалывало, в тусклом свете грудь пылала жаром. Бог ты мой!
В эти фантастические атласные туфельки я засунула свои двенадцатилетние ножки, на которых были только импровизированные носочки, вырезанные из пары колготок и мешком лежавшие вокруг лодыжек. Я встала ровно. Она ущипнула меня за пятку, сунула палец под атлас и нажала на мысок, после чего кивнула в сторону зеркала. Время пришло.
Я сделала последние бодрые шаги ногами, незнакомыми с пуантами, и встала на коврик у перекладины. Осторожно поставив пальцы на деревянную опору, я согнула колени и вскочила на ноги: твердые лодыжки, сильные колени, и вот я наконец встаю на пуанты. Дыхание перехватило, а ноги сообщили, что за все, о чем я мечтала, придется заплатить. То, что я так ждала этого момента, не отменяет боли, которую я бы описала так: словно снимаешь туфли и бьешь большим пальцем ноги об стену, пока ногти на ногах не станут фиолетовыми, как баклажаны, и не отвалятся. (Спойлер!)
Я чуть не потеряла сознание от боли, но будь я проклята, если покажу хоть каплю досады. Я садилась в плие и делала releve, опускалась и поднималась, вниз-вверх, а затем еще раз вверх, вверх, вверх, вверх и снова вверх. Я торжествовала. Ноги болели весь следующий день, а потом неделю, месяц, мне предстояло пережить годы боли, но кого это волнует? Я была балериной, черт возьми! И мне позволили присоединиться к особому и красивому культу боли. Я подняла одну ногу и подсунула под колено, чтобы отдохнуть en pase.
С математической точки зрения, если стоять на пуантах на одной ноге, весь вес тела приходится на костные кончики пальцев и давит на них с силой примерно в четыре тысячи сто ньютонов на метр, это эквивалентно весу целой лошади или рояля, который давит на один палец. Я слышала и от танцоров, и от врачей, что для неподготовленного человека боль от стояния на пуантах достаточна, чтобы потерять сознание.
И вот я стою на кончиках пальцев, прошедшая инициацию и совершенно охреневшая от этого.
Я взялась за тренировки на пуантах с восторженным энтузиазмом, регулярно разбивала в кровь пальцы ног, практиковала releve поздно ночью в спальне, заглушая стук волшебных туфелек ковром и свитерами, чтобы не привлекать внимания к ночному ритуалу. Мне нравилась не сама боль; честно говоря, было чертовски больно. Я плакала, много плакала. Но только в одиночестве. Балет должен быть красивым, и я хотела этой красоты. Каждый раз, танцуя на пуантах, я чувствовала себя плохо, но потом мне становилось лучше.
Танцевать на пуантах получалось все лучше. По мере того как мои бедные ноги регулярно превращались в сырой гамбургер, ногти отваливались, волдыри лопались и стирались до мяса, странные мозоли гордо раздувались на моих мягких ножках, я все больше училась контролировать свою реакцию на боль. Я могла танцевать через боль, пока мои красивые розовые пуанты пропитывались кровью, репетировать до самого обеда и до темноты по вечерам, а ночью просыпаться от того, что простыни случайно задели за свежие струпья с моих ступней, сочившихся сукровицей и прилипавших к хлопково-полиэстровой ткани с цветочным узором. Единственная обувь кроме пуантов, которую я могла носить, – шлепанцы. Снимать носки было слишком больно, а если я собиралась заниматься в студии с часа до восьми, нужно было как можно лучше проветрить раны. В старших классах я училась в балетной школе-интернате, но по утрам мы занимались в местной государственной школе, поэтому одноклассники, которые не занимались балетом, могли регулярно лицезреть мои окровавленные ноги.
К концу карьеры я танцевала, несмотря на отсутствие ногтей, сломанные кости стопы, порванную вращательную манжету и сильный тендинит. У меня начали рваться связки, однажды я получила травму головы от удара ногой под подбородок во время выступления и спазм спины, такой сильный, что треснул один из поясничных позвонков. Но я продолжала выступать. Не то чтобы боль ушла, просто терпимость к ней подкреплялась желанием получить похвалу от тренера. Когда я думаю о прошлом, мне хочется быть менее безрассудной и жестокой по отношению к собственному телу.
Странная терпимость к боли в ногах не прошла после того, как я бросила балет. Много лет спустя на вечеринке одна из девушек упомянула, что у нее есть пара балетных пуант, которые она как-то купила для фотосессии. Она в них даже стоять не могла, не то что ходить, но сказала, что я могу примерить их, если мне хочется. На тот момент мне было уже за тридцать, я почти десять лет как рассталась с некогда любимыми пуантами (для балерин и бывших балерин, которые это читают: моими любимыми пуантами были Grishko 2007 с супермягким голенищем), но старые привычки трудно вывести, и мне очень захотелось примерить ту пару. Сначала я встала в них. Как и предполагалось, мне стало очень больно. Затем я сделала круг по комнате, чтобы в реальном времени ощутить, как синеют ногти на моих ногах. Да, все еще синеют.
Но я должна признать: несмотря на все это, я всегда плачу, если спотыкаюсь. Как такое может быть? Как я могу так хорошо управлять своим телом, ногами и при этом не больше, чем другие, быть готова к удару пальцами о ножку стола? Боль на каком-то уровне кажется такой интуитивной, такой узнаваемой.
«Конечно, я знаю, что такое боль, – говорим мы. – Боль – это когда что-то болит».
Но что это такое на самом деле? Конечно, мы сразу распознаем боль, когда чувствуем ее. Это кажется очевидной, неизменной, универсальной константой, как смерть или налоги.
Но это не так. Боль – субъективное переживание, каждый раз заново ощущаемое мозгом, который жаждет новостей из внешнего мира и отчаянно стремится быть в безопасности. Что происходит? Было ли это ощущение раньше? Может быть, я в опасности? Я точно не голоден, не тоскую, не возбужден и не устал? Не злюсь? Чего я жду от происходящего? Что я вижу, обоняю, слышу? Есть ли угроза? Как поместить в контекст те данные, что поступают от ноцицепторов? Время бить тревогу или успокаиваться? Происходит ли повреждение тканей? Может ли произойти? Господи, неужели я в безопасности? А дальше? Может ли быть еще безопаснее? Мозг задает эти и многие другие вопросы, а затем, оценив всю собранную информацию, создает ощущение боли на свое усмотрение.
Боль – не простое явление. Это не выключатель. Скорее, она похожа на лягушку, которая прибавляет свой голос к хору остальных в болоте вашего сознания. Эта лягушка может издать такой звук, который прорвется сквозь все остальное, как оглушительная сирена. Боль, как зрение, вкус и слух, – еще один легко контролируемый сенсорный опыт из дикой природы ваших перцептивных и реактивных возможностей. Боль может означать, но не обязательно означает, что тело находится в опасности. А отсутствие боли не обязательно значит, что тело невредимо. Боль может быть острой, хронической, диагностически значимой, продолжительной, приводящей к недееспособности, занудной, может сводить с ума, использоваться для забавы или для величайших злодеяний человечества. Боль обеспечивает нам безопасность. Боль разрушает жизнь. Чем пристальнее я ее изучаю, тем больше вопросов у меня возникает. Что мы действительно знаем о боли?
Нет способа точно узнать, как сильно у человека что-то болит. Пока не существует метода количественной оценки боли, невозможно понять, как больно человеку, если его не спросить об этом; нельзя оценить боль по шкале, лаборант не может узнать всю правду о боли с помощью химических реактивов и жужжащих центрифуг. Нет тестов, которые мог бы провести врач, исследуя «боль» в мозгу. Она там даже не локализована.
Каждый болевой опыт формируется на основе множества факторов, и его трудно предсказать. Как мы увидим ниже, переживание боли всегда субъективно, его создает сознание, и оно подвержено всевозможным внешним воздействиям, включая тревогу, уровень угрозы, эмоциональное состояние, предыдущие воспоминания, степень предвкушения и сексуальное возбуждение. Наша внутренняя жизнь и окружение не только влияют на переживание боли, они информируют о ней и играют решающую роль в создании ощущения.
Итак… что же такое боль?
Доктор Лоример Мозли стоит на небольшой сцене TED в Аделаиде и выступает с докладом «Почему вещи причиняют боль». Он выглядит непринужденно, отпускает шутки с австралийским акцентом, на нем черные джинсы и синяя рубашка на пуговицах. Рубашка слегка расстегнута, на лице легкая щетина, голова гладко выбрита.
– Я хочу рассказать историю, которая заменит вам первые три года изучения нейробиологии боли в университете.
История начинается с того, что Мозли врезался в куст, – он имитирует это движение на сцене. Он старший научный сотрудник исследовательского института Neuroscience Research Australia (NeuRA), и его работа по ремиссии хронической боли произвела революцию в лечении пациентов.
Когда он показывает ту прогулку по австралийской пустыне, у него почти незаметно нарушается походка, словно он икает при ходьбе. Это настолько незначительно, что он повторяет движение еще раз, словно хочет убедиться, что мы это видим.
– С биологической точки зрения – я расскажу, что произошло в тот момент, – говорит он, указывая на небольшое нарушение в движении. – Что-то коснулось кожи на внешней стороне моей левой ноги. Это активировало рецепторы на конце больших, жирных миелиновых нервных волокон, и они устремились прямо вверх по моей ноге, вжжжжух! – говорит он несколько иносказательно. – Сигнал поступает в позвоночный столб, а затем снова поднимается в мозг, где передает срочное сообщение: «Вы только что были задеты с внешней стороны левой ноги».
Мозли произносит это на одном дыхании, в одно слово, к большому удовольствию публики. Тело человека покрыто этими передатчиками, и самые быстрые из них не терпят прикосновений. Если что-то коснулось бренного мешка с костями, мозг просто обязан об этом знать. Безопасность превыше всего!
В ходе прогулки по кустам раздражители активировали не только быстрые миелиновые волокна Мозли, но и медленные, свободные нервные волокна – ноцицепторы. Однако в тот роковой день эти сигналы остались без внимания.
– Оно [сообщение] доходит до спинного мозга. Информация для свежих нейронов моего спинного мозга получается следующая: «Э-э-э, приятель, что-то опасное произошло на внешней стороне твоей левой ноги…». – На этот раз Мозли говорит спокойным тоном, соответствующим безмиелиновым волокнам. – И вот, – продолжает он, – спинальный ноцицептор передает сообщение в гипоталамус, неспешно уведомляя его об опасности на внешней стороне левой ноги. Этот сигнал идет не по быстрым миелиновым волокнам и поэтому поступает медленнее.
Теперь настало время мозга. Мозли объясняет собравшимся, что на этом этапе сознание должно оценить, насколько опасна ситуация. Для этого оно «рассматривает все».
Его мозг задает себе вопрос: «Бывал ли я раньше в подобной ситуации?» Ну да, конечно, он уже ходил по бушу. Его мозг проверяет, есть ли воспоминания о похожих ощущениях в нижней части ноги при ходьбе в такой обстановке. Случалось ли такое раньше? Конечно! Маленькие царапины – неотъемлемая часть прогулки в саронге.
Доктор Уилл Гамильтон – психолог, специализирующийся на хронической боли. Он объясняет затруднительное положение Мозли мягким голосом, который отчетливо слышен по телефону:
– Ощущения передаются от ноги к спинному мозгу; эта информация поступает в головной мозг. – Гамильтон говорит, что в конце концов ощущения проникают в сознание Мозли. – Он знает, где находится это место на теле. Он также знает, что его тело делает в пространстве. Но затем он остается спокойным, у него как бы возникает ассоциативная цепочка: «В последний раз, когда я такое чувствовал, это была просто веточка, которая царапнула мою ногу, и что я собираюсь с этим делать? Не буду обращать на это внимание. Просто проигнорирую это и пойду дальше».
Мозли поступает именно так. Он игнорирует сигнал.
– Всю жизнь ты постоянно царапал ноги о ветки, – говорит Мозли, изображая собственный мозг. – Это неопасно.
При этом Мозли слегка трясет ногой, его организм доволен произведенной оценкой. Он продолжает прогулку, заходит в речку, чтобы быстро окунуться, выходит из воды и теряет сознание.
Именно так восточная коричневая змея – одна из самых ядовитых змей Австралии – чуть не убила всемирно известного исследователя боли, который даже не успел среагировать на укус.
– Яд восточной коричневой змеи активирует нервные волокна, – говорит Мозли; в момент укуса его мозг подвергся бомбардировке болевыми сигналами, но не воспринял эту боль как реальную угрозу – учитывая прошлый опыт и ожидания от этой прогулки, мозг Мозли посчитал, что эта боль возникла из-за царапины от маленькой веточки, а не от укуса ядовитой змеи.
Ученый чудом выжил.
Шесть месяцев спустя, во время прогулки с друзьями, он что-то задел ногой. И тут Мозли почувствовал боль.
– Это была настоящая агония, – говорит он. – По моей ноге как будто ударили раскаленной кочергой.
В этот раз он корчился в судорогах и после потерял сознание. Как и тогда, нервные волокна передали в мозг сообщение об остром болевом ощущении.
– Это ощущение поднимается к позвоночнику, а тот сообщает: «Да, передайте этот сигнал дальше», – говорит Гамильтон. – Оно попадает в сознание. Это есть и в памяти его тела. Мозг постоянно каталогизирует ощущения и угрозы, и мы возвращаемся к уже пережитым событиям, чтобы принять новое решение – как сознательно, так и подсознательно. В итоге мозг Мозли получает сообщение о появлении небольшой царапины на внешней стороне ноги. Его мозг оценивает ситуацию. Что происходит в данный момент? Ничего не напоминает? Мозг Мозли получает сообщение о том, что он что-то задел внешней стороной ноги во время прогулки по бушу. Его мозг распознает этот сценарий, и, поскольку он извлек урок из прошлого опыта, то его тело падает наземь, как мешок с картошкой. Болевая система сказала: «Давайте подстрахуемся». После чего выставила по десятибалльной шкале боли наивысший балл, – продолжает Гамильтон. – Его тело впало в ступор от того, что он просто поцарапался.
Во втором случае он не получил серьезной травмы ноги, это было просто очень яркое воспоминание о прошлом опыте.
– Воспоминания, ассоциации с болью и ее контекст диктуют нам, насколько сильную боль мы на самом деле испытываем. – добавляет доктор.
Мозг, наш бедный мозг, всегда пытается обеспечить нам безопасность, несмотря на ограниченные сенсорные данные. Гамильтон говорит, что обычно люди оценивают повреждение тканей эквивалентно субъективному ощущению боли и ее интенсивности. Но в таких случаях, как у Мозли, а также у пациентов с хронической болью и некоторыми травмами это может быть не так. Оказывается, существует целое море факторов, влияющих на ощущение боли, и повреждение кожи – лишь один из них.
Гамильтон продолжает рассказ о боли в ровном темпе, и я слышу, как он время от времени тихонько постукивает по клавиатуре, когда упоминает то или иное имя, проверяя факты по ходу дела. Он харизматичный гений, с которым легко разговаривать, у него мягкий, спокойный голос, который становится ярче, когда на его губах появляется намек на улыбку. Я представляю, что он был бы удивительно хорош в гипнозе, когда он задумчиво отвечает на мои вопросы. Он просит меня представить себе схематично человека, который порезал палец.
Когда нож соскальзывает и происходит порез, на месте травмы остается какое-то количество поврежденных тканей, объясняет он. Мозг должен знать об этом, но, когда сигнал доходит до соединения со спинным мозгом, он конкурирует со всеми близлежащими стимулами в этой конкретной области тела, чтобы решить, стоит ли ему прокладывать путь наверх. То есть к головному мозгу. Такие вещи, как вибрация, температура и давление, влияют на то, как спинной мозг оценивает важность сообщения.
(Именно поэтому имеет смысл потереть большой палец после того, как вы случайно ударились им о дверь; это заставляет сигналы от травмы конкурировать с сигналами от растирания, по факту заглушая и уменьшая боль.) По мере того как сигнал проходит к спинному мозгу, он должен миновать несколько разных пунктов, которые функционируют как арбитры релевантности. Теория контрольных пунктов боли (болевого гейтинга) основана на химических механизмах, которые повышают или понижают голос болевых сигналов. Гамильтон описывает это как «тормозной контроль сверху», который в основном говорит: «Нет, это не актуально» или «Расскажите нам об этом как можно больше». Но зачем мозгу игнорировать сигнал? Отчасти это эволюционно выгодно: если вас укусил за ногу тигр, то информация о выживании при этой травме не так уж актуальна, пока тигр все еще вас ест. Так что механизм подавления болевого сигнала нужен, чтобы вы могли выбраться оттуда, и только когда это действительно становится актуально (зафиксировать ногу и не использовать ее в течение пары недель), когда вы вне опасности, на боль стоит обратить внимание.
Болевой гейтинг, таким образом, позволяет распределять сигналы, и они сортируются «вверх» или «вниз» по разным критериям. Гамильтон объясняет, что существуют химические и психологические критерии, а также критерии на уровне спинного мозга.
Теория болевого гейтинга отвечает на вопрос: как организм определяет, что ему грозит опасность?
– Некоторые из таких гейтов связаны с организмом в целом, но также и с уровнем угрозы для человека, – говорит Гамильтон. – В принципе насколько вам угрожает информация? Насколько вы должны обращать на нее внимание? Представьте, что это усилители динамиков в спинном мозге или, знаете, демпферы.
Также играют роль любые воспоминания или ассоциации мозга, связанные с подобными стимулами, – и то, что мозг знает о местонахождении тела. В сущности, что означают эти ощущения?
Пройдя через так называемые гейты, ощущение начинает пробиваться в сознание, и возникает другой набор вопросов и оценок. Мозг спрашивает: «Что я знаю о том, что происходит в данный момент? Что я делаю? Что говорит мне мое тело и что я делаю в ответ?» Можно думать о боли как о способе использования организмом сенсорного опыта для побуждения к действию.
– Субъективное переживание боли – это смесь нескольких вещей, оно связано с интенсивностью ощущения и общей активностью человека, со степенью угрозы, с эмоциональным состоянием, – говорит Гамильтон. – Все это усугубляется влиянием воспоминаний о боли на более высоком уровне. И конечно же, ответственностью. Чувствуют ли они, что могут чем-то эффективно ответить на боль?
Трудно переоценить важность последнего предложения. Когда человек испытывает боль, ощущение того, что он может что-то с этим сделать, оказывает огромное влияние на то, как его мозг создает болевые ощущения.
Подробнее об этом мы поговорим через секунду, но сначала – несколько слов о терминологии. Когда кто-то говорит, что «боль у вас в голове» или «мозг создает ощущение боли», это правда. Однако английская фраза It’s all in your head («Это все у тебя в голове») используется пренебрежительно, как будто проблема не имеет значения, потому что человек просто вообразил ее. Ею отмахиваются от реальной боли и обиды в разных обстоятельствах, от кабинета врача до зала суда. Поэтому мне важно донести до вас, что, когда я пишу о том, как мозг «делает» или «создает» боль, я имею в виду буквально этот процесс. Мозг создает боль. Но это не значит, что боли нет! Боль чрезвычайно реальна. Знание органа ее происхождения не уменьшает реальности ее переживания, так же как препарирование трупов не принижает исследование тела.
Люди любят цитату Мураками: «Боль неизбежна, страдание необязательно», но это цитата из книги про бег, написанной человеком, который перестал быть владельцем успешного джаз-клуба, чтобы стать известным романистом. Не думаю, что эти слова обязательно верны во все времена. Я не верю, что страдания необязательны во многих обстоятельствах, и уж точно никогда не возьму на себя смелость сказать больному раком, что его страдания необязательны. Поэтому, когда я говорю, что боль у вас в голове, это не значит, что она не заслуживает внимания и времени. Совсем наоборот. Боль, которую создает мозг, может быть всепоглощающей.
Кстати, о всепоглощающем. Когда я ела самый острый в мире перец (спойлер!), интенсивность ощущений сдерживало знание того, что я в безопасности, что я сама согласилась на этот эксперимент, и он закончится через сорок пять минут, максимум через час. Если бы я столкнулась с этим ощущением во рту без чувства безопасности, в неизвестной и пугающей меня обстановке, я бы точно решила, что умираю. Мне даже так казалось, хотя я знала, что со мной все в порядке! До этого я пробовала очень острую пищу; я находилась в достаточно безопасном месте – все это указывало на то, что угроза не должна быть большой. Мозг старается распознать типичные ситуации, чтобы обезопасить нас. Он причиняет нам боль, чтобы научить что-то не делать, сбавить обороты, а иногда и вовсе избежать даже приближения к мнимой угрозе. Вот почему, если вы думаете, что что-то может причинить боль, обычно это и происходит, а возможно, даже сильнее, чем если бы вы не были так обеспокоены этим.
Это имеет значительные последствия для пациентов с хронической болью.
– В большинстве случаев при хронической боли у людей наблюдается центральная чувствительность, – говорит Гамильтон, имея в виду состояние, характерное для пациентов с хронической болью, когда их нервная система натренирована оставаться в постоянном состоянии повышенной готовности. Он описывает этот подход так: «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». – Их мозг склонен усиливать степень угрозы болевых ощущений, и за много месяцев и лет возникает своего рода петля положительной обратной связи. Болит какая-то часть тела, и люди чувствуют угрозу и поэтому стараются избегать того, что может вызвать у них такие же ощущения. Но они также убеждены в том, что это действительно значимая и угрожающая вещь, на которую следует обратить внимание, и даже небольшое словесное подкрепление может усилить боль, например такое: «Ой, больно, нужно уделить этому больше внимания; ой, больно, больше внимания».
Любопытно, что частью лечения хронической боли является боль.
– Часть лечения хронической боли подпадает под общую профилактику воздействия и реагирования, – говорит Гамильтон. – Идея заключается в том, что люди испытывают фобические реакции на боль. На самом деле это не так уж сильно отличается от других форм фобии, когда из-за того, что в течение длительного времени люди пытались избежать ее любой ценой, она становится все больше и больше, все больше и больше, все более угрожающей.
В этом виде терапии участник постепенно обвиняет источник своего страха.
– Вы пытаетесь подойти немного ближе к объекту фобии, остаетесь там столько, сколько можете терпеть, а затем, когда научитесь терпеть, находясь так близко к нему, вы можете подойти к нему еще немного ближе. Это происходит вполне естественно при выполнении многих физических упражнений, физиотерапии, когда люди регулярно подвергают себя терпимому количеству боли и дискомфорта, – говорит он. Это происходит и в спальне. – Я вижу здесь некоторые параллели с мазохизмом, когда вы как бы говорите: «На самом деле я хочу увеличить свою терпимость к боли. Я хочу приблизиться к этому. Есть причины, по которым я хочу испытывать боль и не бежать от нее».
Бет2, страдающая хронической болью из-за заболевания соединительной ткани, знает об этом очень хорошо. У нее фибромиалгия, и начало симптомов она относит к семи годам. Она также увлекается БДСМ.
– Моя жизнь была окутана болью, иногда оставалась только боль и ничего больше, – сообщила она мне. – Мой сексуальный опыт всегда был балансом боли и удовольствия, потому что моя чрезвычайная чувствительность означает, что все причиняет боль, но иногда я чувствую себя очень хорошо.
Потакание боли обходится Бет недешево.
– Когда я выбираю, чтобы меня били почти до синяков в контексте БДСМ, это означает, что я буду восстанавливаться по крайней мере неделю. Боль очень сильная. Она блокирует все остальное, это похоже на состояние транса, и иногда я переживаю диссоциацию. Когда избиение заканчивается, я – сплошные эндорфины, просто животное, способное испытывать ощущения, но не обрабатывать их и не пытаться понять. Это редкость и благословение, которое стоит недели физического восстановления.
Ее состояние ухудшается, но она работает с этим.
– Каждый день я не знаю, где пройдет граница между прогрессирующей болью и пагубной болью, потому что каждый день у меня болит в новом месте. Наверное, я люблю боль, потому что она всегда рядом, и любить ее – мой единственный выход, если я хочу оставаться в здравом уме.
История Бет поднимает один хороший вопрос. Учитывая все переменные, влияющие на субъективное переживание боли, какую роль в нем играет мазохизм? Как эти ассоциации – предвкушение боли и желание ее получить – могут изменить переживание боли, которое создается в мозгу?
2. Имя собеседника изменено в целях сохранения конфиденциальности.
– Если кто-то ассоциирует сексуальное удовольствие или другие формы психологического удовольствия с болью, то боль становится не такой опасной, – говорит Гамильтон. По сути, поскольку участник стремится к боли в приятной ситуации, его опыт будет более приятным. Он также отмечает, что приятная боль может легко превратиться в неприятную, если обстоятельства изменятся. – Очевидно, что мазохизм может иметь собственную патологию, при которой он может превратиться в реальную угрозу. Я думаю, что существует своего рода внутренний переключатель, когда боль перестает быть приятной и внезапно становится довольно опасной.
В этой ситуации ощущение боли меняется, потому что ассоциация перестает быть приятной. Вот почему стоп-слова – конкретные слова, произнесение которых приводит к немедленному прекращению БДСМ-сессии, – не подлежат обсуждению. В любой момент все может измениться, и согласие может быть отозвано в любую секунду по любой причине. Если оно не может быть отозвано таким образом, то это не БДСМ по обоюдному согласию.
Гамильтон говорит, что существует очень, очень мало видов поведения, которые сами по себе считались бы патологическими, отмечая, что гораздо большее значение имеет то, как поведение влияет на жизнь человека.
– Я наблюдаю, что мазохизм, в первую очередь, – способ контролировать негативные эмоции. Психологическая гибкость – это в том числе способность проживать негативные эмоции без необходимости их компульсивно подавлять. То есть я могу просто сказать: «Я злюсь и расстроен сегодня», и мне не нужно ничего с этим делать. Сам по себе мазохизм нейтрален, но то, как он функционирует в системе, может быть патологией в зависимости от того, кажется ли поведение компульсивным, неконтролируемым. У каждого человека есть свой механизм эмоциональной регуляции, – говорит Гамильтон. – Для некоторых людей намеренная боль играет в ней здоровую, поддерживающую роль. Я знаю многих в кинк-сообществе: они как бы проводят самотерапию, которой, возможно, рано научились, и у них возникла фобия по отношению к боли, к разнице в силе, к безопасности.
Намеренная боль, таким образом, позволяет безопасно исследовать определенные типы сложных чувств. Это не значит, что БДСМ по своей сути терапевтичен или может заменить психиатрическую помощь; скорее, некоторые практики могут применяться как инструмент для личного роста. Боль по обоюдному согласию в сексуальном контексте становится способом помочь людям обрести большую психологическую гибкость в тех областях, где они могли быть более жесткими ранее.
Подумайте об этом так: если мозг является скульптором субъективного переживания боли, то мазохисты и другие люди, которые ищут боли, обращаются с просьбами к художнику. Об этом очень хорошо осведомлена Грейс3.
– Контекст – это все! – говорит она со смехом, ее звонкий голос доносится из телефона, как ветряные колокольчики, в моей припаркованной машине.
В течение многих лет Грейс была популярной доминаторшей на местной оживленной БДСМ-сцене. Она говорит, что контекст заставляет ее думать об эффекте плацебо: это объясняет, что ориентировка людей на болезненное взаимодействие формирует их переживания. Это называется ожиданием.
– Такова часть реакции на плацебо, – объясняет она. – Если я иду на это взаимодействие, думая, что оно принесет мне пользу, скорее всего, так оно и будет.
Она признает, что есть определенный резонанс между эффектом плацебо и обычным БДСМ-ритуалом из-за ожиданий, связанных с таким видом игры. «О боже, сейчас произойдет что-то важное» – такое чувство играет решающую роль в формировании общего впечатления от сессии. Эти позитивные ощущения поддерживает предыдущий опыт практикующего, а также его желания. Если раньше было хорошо и вы думаете, что будет хорошо и сейчас, то вы готовы получить удовольствие. Это не значит, что наслаждение гарантировано; все меняется в момент, ведь жизнь полна неопределенности. Это просто означает, что вы настроены на то, чтобы вам все понравится.
– Есть ожидание пользы, например: «Что бы здесь ни случилось, я могу уйти от этого опыта; я буду чувствовать кайф, и в результате возникнет что-то новое», – добавляет Грейс.
Это и есть самое интересное. Наша способность предвкушать и наслаждаться такими вещами стимулируется ожиданием, подкрепляется ритуалом и усиливается заученными ассоциациями с любимыми предметами фетиша, такими как латекс, кнуты и кляпы. Это все предвкушение. Есть запахи, виды и звуки. Это мультисенсорная природа создания ритуала, в котором боль – это единая вещь, которая происходит, а для боли, которая происходит, контекст – это все, это требование мозга, который пытается осмыслить происходящее.
Грейс мгновенно выражает недовольство по поводу уничижительного использования идиомы It’s all in your head:
– Буквально невозможно получить опыт, который не был бы опосредован мозгом.
Каждая боль в спине, каждый зудящий комариный укус, розовый цвет кожи – ваш мозг создает все, что вы сознательно переживаете.
Контекст – это самое главное. Когда мы вступаем в эти созданные нами собственноручно ритуалы БДСМ, мы создаем плацебо, среду и контекст, в котором мы как бы оптимизируем реакцию плацебо на боль. Конечно, это больно. Но мы устроили все так, что это еще и приятно.
Грейс это знает. Она не только опытная доминатор и свитч (термин, обозначающий, что она обычно доминирует над другими людьми, но также может быть подчиняющейся в правильном контексте), но и мастер акупунктуры. Опять же, все зависит от контекста. А с контекстом приходит ритуал.
В БДСМ и акупунктуре так много ритуалов, говорит она. Думайте о ритуалах как о способе дать сигнал подсознанию, что должно произойти что-то конкретное. Шапочка и мантия для выпускного вечера сигнализируют о закрытии определенной главы в образовании. Гоголь-моголь на полках магазинов сигнализирует о наступлении светлых праздников. Задувание свечей на день рождения сигнализирует о надежде на новый год. Подобные ритуальные ассоциации очень полезны, скажем, в кабинете врача, где белый халат и стетоскоп сигнализируют не только об авторитете и знаниях, но и о том, что помощь уже пришла и исцеление на подходе. Это верно и для акупунктуры: ритуал процедуры – свет, спокойное пространство, где потенциально странные или вредные стимулы достигаются с помощью игл, – помогает сформировать восприятие этой процедуры мозгом. То же самое с БДСМ. То же – с балетом.
– Плацебо – это побуждение ожидания пользы от окружающей среды, – добавляет Грейс. В конечном счете оно может усилить реальный физический эффект от самого лечения, будь то лекарство или игла для акупунктуры. Сам опыт – только часть того, как на вас влияет все в целом. Ритуал и ожидание – это важные аспекты подготовки.
Как правило, в таких ситуациях ожидание работает положительно. Например: «О, если иголки немного причиняют боль, я знаю, что это пойдет мне на пользу». Люди, которые ожидают, что то или иное действие принесет им пользу, в десять раз более готовы терпеть кратковременную боль, чтобы достичь цели, если верят, что оно того стоит. Пуанты, БДСМ и акупунктура похожи в этом отношении. Они похожи и в других отношениях: биологически они работают с помощью одних и тех же механизмов.
– Когда вы втыкаете иглу для акупунктуры в кожу и поворачиваете ее, вы на разных уровнях воздействуете на матрицу «тело-разум», – объясняет Грейс. – На местном уровне – на нейроны, чувствующие боль, на матрицу фасции, а также на биохимию воспаления.
Сигналы посылаются по нервной системе к позвоночнику и мозгу, и на организм оказывается воздействие на всех этих уровнях. Игла взаимодействует с нейронами, чувствующими боль, как удар обухом. Оттуда сигналы передаются в спинной мозг, где они интерпретируются в контексте матрицы боли.
По словам Грейс, матрица боли включает в себя три составляющие: сигнал, местоположение и контекст. Это ощущение «ай», место на теле, откуда исходит «ай», и то, что вы чувствуете в этой связи. (Как мы уже видели, укус змеи в кустах и царапина от ветки во время похода могут подействовать на человека совершенно по-разному; контекст имеет значение!) Все эти данные собираются вместе и создают индивидуальный болевой опыт.
Однако, учитывая субъективность боли, а также важность ожиданий и эмоционального контекста в отношении того, как мы испытываем эту боль, мне стало интересно: что происходит, если кто-то хочет пройти курс иглоукалывания, но боится иголок? Бывает ли такое? Грейс ответила мне:
– Да. Конечно, да. Люди удивительным образом обращаются к акупунктуре, даже если немного боятся игл, потому что они достаточно много читали об этом или кто-то рассказал им. Или если они испытывают боль и слышали, что иглоукалывание может помочь.
Когда к Грейс приходит пациент с фобией иголок, она старается перестраховаться, рассказывая не только о своем врачебном опыте, но и о том, что можно увидеть на столе.
– Мы поговорим об ощущениях от игл и о том, какими они будут, потому что это действительно важно с точки зрения того, оказывает ли акупунктура реальный нейробиологический эффект.
Она говорит, что странные ощущения – это хорошо, и, хотя они могут быть кратковременно интенсивными, в основном они просто странные.
Стоит отдельно отметить, что она просит пациентов сообщать ей, когда они почувствуют что-то странное, чтобы она перестала двигать иглой. Очень важно, чтобы все ее пациенты знали, что они контролируют ситуацию.
– Буквально первое, что я говорю пациентам, звучит примерно так: «Вы контролируете этот опыт целиком. Я передаю контроль над этой ситуацией вам, и, если произойдет что-то, чего вы не хотите, скажите мне, и это прекратится». Это основа, непоколебимая основа. Часто можно увидеть, как люди заметно расслабляются просто от этих слов.
Это невероятно меняет ситуацию, осознание силы. По ее словам, с некоторыми пациентами она шутит, что это похоже на БДСМ-сессию, где у человека есть стоп-слово.
– Вы можете в любой момент сказать, чтобы этот опыт прекратился.
Это особенно важно для людей, у которых в прошлом была травма, когда у них отняли выбор. Прямое подтверждение контроля над потенциально болезненной ситуацией позволяет каждому пациенту или участнику сессии понять, что, по сути, власть находится в их руках.
– Они понимают, что это для их блага и в пределах их контроля, и это помогает им переосмыслить опыт. Это помогает их нервной системе расслабиться.
Я чувствую, как у меня перехватывает горло.
– Это должно быть целительно, – говорю я, и мой голос эхом отдается в припаркованной машине. – У меня есть медицинская травма, – признаюсь я в приобретенной фобии иглы. Когда я умирала от расстройства пищевого поведения (в немалой степени вызванного занятиями балетом), я была стационарной пациенткой в учебной больнице в Чикаго, и несколько раз студенты-медики удерживали меня для проведения процедур, на которые я не давала согласия. В тот момент я была слишком напугана, чтобы сообщить об этом. Особенно запомнился случай, когда врач-стажер прижала меня к кровати, чтобы поставить капельницу в шею. Я плакала, истекая кровью, и умоляла ее остановиться. Она не остановилась, а потом просто заставила уборщицу сменить рубиново-красные простыни.
Всю жизнь я бесконечно увлекалась субъективной природой болевого опыта. Я думаю о физиотерапевтах, которые спрашивали, прежде чем прикоснуться ко мне, и позволяли мне чувствовать себя независимой и сильной, потому что учили меня, как исцелить тело; как они могли отмахнуться от боли с помощью концентрации и похвалы. Я также думаю, каково это, когда нужно взять кровь, и лаборант закатывает глаза, когда я объясняю, что у меня плохие вены на руках; как подскакивает давление, когда они меня не слушают, как трудно удержаться от слез, когда они продувают вену, хотя я об этом предупреждала, и как лаборант злится, что я была права, и следующая попытка почти всегда хуже и больше похожа на злобное копание в вене. Я думаю о том, как эта боль растет, потому что я не могу уйти. Я думаю о том, каково это, когда у стоматолога лекарства начинают действовать раньше времени, а врач еще не знает об этом, так что почему бы вам просто не расслабиться?
Я думаю о том, что, когда я рожала и эпидуральная анестезия не помогла, медсестра вошла в палату и поставила мне катетер, хотя я просила ее не делать этого, потому что я полностью ощущала свой таз и контролировала мочевой пузырь и чувствовала все, что она делает. Но я не могла сдвинуться с места, потому что мои ноги полностью онемели от эпидуральной анестезии, которая была поставлена неправильно. Это было ощущение ловушки и боли.
Но также я думаю, что значит быть свободной. Мне столько раз причиняли боль против воли, что, может быть, я балуюсь болью ради удовольствия, чтобы дать отпор всем, кто хочет это услышать. Я думаю о том, что меня отшлепали, потому что я попросила об этом, что я с презрением страдаю в сауне, ем такую острую пищу, что у меня может пойти носом кровь. Я думаю о том, как здорово жить в теле, которое может делать и чувствовать так много вещей, так по-разному. Как одни и те же физические стимулы могут вызывать все – от мучительной боли до восторга. Как изменчива эта попытка прожить жизнь! Каждый день в бренном мешке с костями – проект по превращению влажного электричества в полные ведра чувств, и он никогда не перестанет поражать меня.
По телефону с Грейс я думаю о медицинской травме, об акупунктуре, о БДСМ, о согласии. Я представляю, как она проводит мощную кинк-сессию, как она нежно втыкает иглы в нервную кожу. Я думаю о том, что каждый опыт боли полностью уникален, правдив и субъективен. Я думаю о малышке Ли и о ее блестящих новых пуантах.
Глава 2
Влажное электричество боли
Если разрезать язык пополам, происходит много вещей. На дрожащем видео, которое я смотрю с телефона, руки в перчатках хватают жирный, наполненный кровью язык. При виде этого зрелища невозможно не думать о пиявках, не морщиться, не думать о тако из говяжьего языка, застрявшем между моих коренных зубов. Знаете, как рот наполняется влагой, когда прикусишь щеку, и раскаленный поток крови смешивается со слюной, которой все равно, быть смазкой для пищи на пути вверх или вниз. Да, именно так.
Женщина сидит в кресле, молчит. Ее лицо безмятежно под тонкими нарисованными бровями, рот неподвижен, над ним сверкает пирсинг Монро. Единственное, что находится в движении, – корень языка, который бьется, как сердечная мышца или пойманное животное. Фиолетовыми чернилами обозначен путь скальпеля. У ассистента дрожат руки, и боже, это ли не самое худшее в нашей картине? Только один человек здесь может так заметно нервничать, приятель, и позволь заверить тебя: это не ты. Густо подведенные глаза клиентки закрыты, и позже ее веки не дрогнут: мраморная статуя в покое. Рукоятка скальпеля, пластиковая и зеленая, тошнотворно долго висит возле ее рта, предвещая шоу ужасов.
Наконец я выключаю видео: это не из-за крови. Я каждый месяц вижу кровь. Я рожала ребенка, и огромные послеродовые пеленки, которые выдают за прокладки, насквозь пропитались моей кровью. Я выкачивала кровь из брюшной полости животных, чтобы помочь ветеринарным хирургам. Я плевала кровью из носа на комнатные растения, потому что это хорошее удобрение. Но я никогда не позволила бы вонзить мне в язык нож. Я подумала, что зря решила поесть (безвкусный куриный салат), когда смотрела это видео, и вообще зря начала его смотреть. Я не могу перестать думать о том, что должно происходить в мозгу, чтобы он мог выдержать такое испытание.
Наблюдая за тем, как клиентка с готовностью выдерживает эту новую пытку, я занята какофонией сигналов, которые, должно быть, устремляются к ее спинному мозгу. Я не знаю, о чем она думает в этот момент, но могу сказать следующее: ноцицепторы на ее языке истошно вопят от боли.
Вот как это работает.
Нервная система человеческого тела – сложная структура для передачи сигналов и ответных действий, которая сама по себе выглядит так, будто кто-то пытался изобразить основную идею человека с помощью спагетти. Ваш мозг, запертый в темноте собственного хранилища, полагается на входные данные от мириад сенсорных нейронов, чтобы соответствующим образом реагировать на внешние раздражители и сохранять в безопасности ходячий мясной мешок, который является вашим единственным шансом на существование в этом коварном мире. На самом базовом уровне работа периферической нервной системы, которая включает в себя все оборудование нервной системы за пределами головного и спинного мозга, заключается в том, чтобы сообщать мозгу, что происходит.
Для этого тело покрыто специальными клетками. Эти нервные клетки, так называемые сенсорные рецепторы, активируются под воздействием таких раздражителей окружающей среды, как звук, прикосновение, тепло, свет, вкус и запах. В целом мы можем классифицировать сенсорные нейроны в зависимости от их специализации. Существуют хеморецепторы, которые определяют химические вещества, терморецепторы для определения температуры, фоторецепторы, реагирующие на свет, и механорецепторы, которые реагируют на давление и растяжение. Однако различные типы сенсорных рецепторов сами по себе гораздо более специфичны в конкретных стимулах, на которые они реагируют, и не всегда ясно, каков реальный механизм их действия. Например, гигрорецепторы реагируют на изменения влажности, но исследователи не совсем уверены, делают они это посредством механосенсорного пути или же больше похожи на хеморецепторы, улавливающие изменения в химическом составе окружающей среды.
Честно говоря, это довольно забавный мысленный эксперимент – попытаться разобраться в различных типах сенсорных клеток, на которые опирается мозг при построении картины окружающего мира. Хеморецепторы на языке сообщают о химическом составе пережеванного болюса у вас во рту. Палочки и колбочки в глазах описывают цвет и интенсивность видимого света. Механорецепторы, встроенные в волосковые клетки внутри уха, сотрясаются от вибрации звука, и мозг расшифровывает это сотрясение как «крик», «симфонию» или «сминание бумаги в режиме АСМР». Барорецепторы в кровеносных сосудах следят за кровяным давлением. Проприоцепторы сообщают мозгу, как тело ориентировано в пространстве, например, стоит ли оно и где находятся пальцы при стандартном тесте на трезвость. Около десяти миллионов обонятельных нейронов напрямую связаны с мозгом, каждая клетка представляет собой специализированный тип рецептора запаха. Когда в нос попадают молекулы воздуха зоопарка, аромата духов или пердежа незнакомца, это стимулирует нейрон, посылающий сообщение в мозг, который затем идентифицирует запах.
Все это кажется довольно простым и разумным, пока вы не вспомните, что нервная система – электрическая. Поэтому все сенсорные нейроны должны превратить свои наблюдения за окружающим миром в электрические сигналы. Так, например, когда в нос попадает пук незнакомца, запах растворяется в носовой слизи, где плавают маленькие волосовидные выступы обонятельных нейронов, ожидая призыва к действию. Эти выступы, так называемые реснички, покрыты обонятельными рецепторами, которые функционируют как специализированная система замков и ключей. Каждая клетка и ее реснички выражают только один тип обонятельных рецепторов, хотя есть и дублирующие. Когда нужная молекула находит нужный рецептор, это является биохимическим эквивалентом вставки нужного ключа в нужный замок. В замке находится весь молекулярный механизм, необходимый для превращения информации о запахе в буквальный электрический сигнал. Затем сигнал посылается в мозг, который расшифровывает полученную информацию, и вуаля: вы ощущаете запах.
Очаровательный спутник нежно берет вас за руку? Бам! Разряд электричества мгновенно долетает до самого мозга. Видите этот прекрасный закат? Это подарок вашей центральной нервной системы, созданный из электрических импульсов, которые основаны на ограниченном спектре света и расшифрованы человеческим глазом. Восприятие любой вещи начинается со стимула, который запускает биохимию создания электричества, что приводит к появлению электрических сигналов в нейронах; кульминацией является реакция мозга: «Хм-м, что у нас тут», а затем – бам! – вы получаете ощущение!
(Если вам интересно, я отличный товарищ по накурке. Если вам нравится внимательно рассматривать способы, которыми сенсорные аппараты создают разнообразный опыт восприятия мира, тогда я буду вашей лучшей подружкой. Пчелы видят ультрафиолетовый свет! Собаки чувствуют запахи сквозь время! Бабочки ощущают вкус лапками! Я могу делать это часами.)
Но сенсорное оборудование не только помогает оценить приятный запах тела или тайком послушать музыку в спортзале. Оно также должно сообщать, когда происходят плохие вещи. Для этого мозг должен знать, когда телу нанесен вред, чтобы он мог вызвать ощущение боли. Это критически важная система, которую, смею заметить, мы должны более регулярно и внимательно благодарить. Люди, родившиеся с врожденной нечувствительностью к боли, сталкиваются с трудной перспективой пытаться ориентироваться в мире без обратной связи, необходимой для обеспечения их безопасности. Как вы узнаете, что у вас инфекция, если вы не можете почувствовать боль, связанную с ней? Как вы узнаете свои безопасные границы, если нет сигнала о том, что они нарушены? Люди, которые не чувствуют боли, без труда ходят по сломанным костям, кусают губы и натирают ноги в плохо подогнанной обуви. Они часто наносят себе тяжелые травмы, которые значительно сокращают продолжительность их жизни. Проще говоря, боль нужна нам для того, чтобы мы были в безопасности. Но сама боль не так проста.
Это кажется нелогичным: хотя мы ощущаем боль мгновенно и четко, это совсем не похоже на щелчок выключателя. Скорее, боль – это сложное и субъективное ощущение, которое создает мозг. Именно так: мозг создает ощущение боли. Но для этого он должен знать, что существует проблема. К счастью для нас, один тип сенсорных нейронов предназначен исключительно для обнаружения вреда: ноцицепторы.
Ноцицепторы – сенсорные нейроны, которые бьют тревогу, когда подвергаются воздействию всевозможных раздражителей, которые, по их мнению, наносят или потенциально могут нанести вред организму. Структурно они имеют клеточное тело, прикрепленное к усику, называемому аксоном. Этот усик отходит от тела клетки и заканчивается пучком свободных нервных окончаний. Они реагируют на химическую, термическую и механическую опасность и, подобно другим сенсорным нейронам, превращают воспринимаемую опасность в электричество. Как только достигается базовый порог опасности, например, при прикосновении к горячей плите или ударе пальца ноги, ноцицепторы бьют тревогу, создавая электрический сигнал тревоги и посылая его туда, где он может быть передан в мозг для рассмотрения.
Эти нейроны базируются в двух местах, в зависимости от того, за какой частью тела ведется наблюдение. Клеточные тела ноцицепторов, ответственных за лицо, собраны в голове, в так называемом тройничном ганглии; остальное тело находится под наблюдением ноцицепторов в дорсальном корешковом ганглии в позвоночнике. Ганглий – это узел нервных клеток, сгруппированных вместе, как люмпен-центры электрической сигнализации.
Но почему существует два узла клеточных тел? Не логичнее ли иметь один центр? Чтобы выяснить это, я обратилась к доктору Йенсу Фоэллу, в то время он работал нейропсихологом в университете штата Флорида. Он, как ни странно, начал с анатомического справочника, напомнив мне, что спинномозговой и тройничный пути практически не связаны между собой:
– Первый собирает болевые сигналы от тела и отправляет их наверх через позвоночник, а второй собирает информацию от головы [и] лица.
– Оба пути заканчиваются в одном и том же месте в мозге; они просто по-разному туда добираются. Но почему? – поинтересовалась я.
– Чтобы провести части тройничного пути в спинной корешок ганглия [где обрабатываются сигналы от тела], нам пришлось бы перенаправить сигналы от лица вниз в позвоночник, а затем обратно в мозг, что является пустой тратой нервной ткани. Это также означает, что сигналы боли должны были бы проходить дальше и дольше регистрироваться. Иначе говоря, наше лицо прилегает к одной стороне мозга, а все остальное тело – к другой, поэтому эти две области проходят в мозг разными путями.
Аксоны наших сенсорных нейронов расходятся от этих двух центров. Аксоны – тонкие нити, они тянутся от тела клетки и позволяют нейрону играть в телефон с самим собой и получать входные данные из периферической нервной системы, то есть из мира за пределами головного и спинного мозга. Разветвленные, как изящная и всеобъемлющая корневая система у растения, они укореняются в ноцицепторах по всему телу. Поскольку организм встречает угрозы, о которых мы должны знать, как внутри, так и снаружи, эти рецепторы находятся снаружи (в коже, роговице и слизистой) и внутри (в мышцах, суставах, мочевом пузыре и кишечнике). Они разбросаны неравномерно. Концентрация ноцицепторов на коже выше, чем на внутренних органах, на кончиках пальцев она достигает двенадцати сотен на квадратный дюйм, что отчасти объясняет, почему простой порез бумагой вызывает такие экзистенциальные страдания. Легко понять, почему тело может захотеть лучшую систему сигнализации для своей внешней водонепроницаемой оболочки, чем для более важных для жизни внутренних органов, которые по большей части живут в темноте без прикосновений.
Кстати, о внутренних органах, вернемся к тому кровавому видео. Когда скальпель вступает в контакт с языком женщины и начинает его разрезать, он попадает в рецептивное поле, образованное периферическими концами ноцицепторов. Эти рецепторы срабатывают на сигнал определенной интенсивности (слава богу!). Если бы ноцицепторы, реагирующие на опасность, давали осечку, организм быстро превратился бы в очень болезненный вариант «мальчика, который кричал «волки-волки»», подавая сильный сигнал тревоги при отсутствии реальной угрозы.
Спросите любого, кому не повезло поссориться с самцом утконоса в период размножения. (Я знаю, для многих из вас это может показаться увлекательной затеей, но серьезно, не делайте этого: яд утконоса вызывает резкое повышение чувствительности к боли, состояние, известное как гиперальгезия. Она заставляет ноцицепторы срабатывать без разбора, то есть, как бы это сказать помягче, болевые сенсоры кричат о близости смерти безо всякой причины. Сам яд не смертелен для человека, хотя я думаю, что некоторые люди, которым пришлось испытать на себе его действие, хотели бы умереть. Яд приводит к длительному болевому синдрому, который не может снять даже морфий. Я слышала, что это настоящий ад.) То, что ноцицепторы срабатывают, когда есть вероятность повреждения, – это великолепная способность нашего тела; то, что они обычно не тревожат нас по пустякам – дарит нам покой, который, скорее всего, можно принять как должное.
Но здесь, на жутком видео, которое я смотрю без звука среди суетливых веселых туристов в одной кофейне в Западном Эшвилле, кажется, что ноцицепторы у бесстрашной девушки, которой разрезали язык, работают как надо, соединяясь с аксонами и донося до центральной нервной системы звучное «ЧТО ЗА ХРЕНЬ». Когда скальпель делает надрез, она глубоко вдыхает, ее ноздри закрываются. Несмотря на то что на видео очень близко показано, что происходит у нее во рту, я вижу, как морщится кожа у нее вокруг глаз, это сигнализирует о том, что я представляю себе, как сильно преуменьшенное содрогание. Стоит отметить, что ее ноцицепторы подадут такой же сигнал, если она начнет лизать горячую кочергу или сделает глоток отбеливателя, но сегодня механическое повреждение скальпелем заставило ее болевые рецепторы превратить неприятные стимулы в электрическую энергию.
Первая волна болевых сигналов направляется в мозг со скоростью около двадцати метров в секунду. Она доходит так быстро, потому что летит по аксонам с миелиновым волокном Aδ. Миелин – это своего рода жировая смазка, которая помогает электрическим сообщениям в организме, будь то связь между телами нервных клеток или электрические распоряжения, посылаемые мышцам, быстрее доходить до места назначения. Миелин часто сравнивают с пластиковой оболочкой провода, поскольку он служит той же общей цели – электрической изоляции, хотя аналогия несовершенна. Важно знать, что сигналы, проходящие по миелиновым волокнам, достигают места назначения быстрее, чем те, которые идут по безмиелиновым волокнам.
Учитывая, что миелин увеличивает скорость передачи сигнала, болевые сигналы, поступающие по аксонам Aδ-волокон с легкой миелиновой оболочкой, являются более быстрыми сигналами опасности, по сравнению с теми, которые проходят без миелиновой подпитки. Ученые называют эти сигналы первой болью. Первая боль – это быстрая боль. Она большая и сильная, ее нельзя пропустить. Первая боль звучит как выстрелы базуки из боевика восьмидесятых годов, и так же воздействует на мозг. Эта боль, которая возникает в связи с сообщениями, поступающими от аксонов Aδ-волокон, похожа на чрезвычайно резкие всплески, как от укола. Это белая вспышка, возникающая перед глазами, когда вы случайно прищемили руку дверью автомобиля. Первая боль требует вашего немедленного внимания и реакции, прямо здесь и сейчас.
В десять раз медленнее приходят сообщения со второй волной болевых сигналов, которую ученые поэтично назвали, как вы можете догадаться, «второй болью». Эти сообщения поступают по аксонам С-волокон, которые не миелинизированы, как Аδ-волокна. Без миелина болевые сигналы проводятся медленнее. Вторая фаза боли более продолжительна, но менее интенсивна. Она сигнализирует об активном повреждении. Вторая боль более распространена; она жжется, пульсирует, ноет, стреляет, от нее мутит. Первая боль передает, что ваша рука зажата дверью автомобиля; вторая боль – что ваша рука сломана. Первая боль возникает при более низкой интенсивности, чтобы предупредить вас о проблеме; вторая боль возникает, когда уровень интенсивности раздражителя достаточен, чтобы задействовать С-волокна. Первая боль говорит о том, что скальпель разрезает ваш язык. Вторая боль говорит, что теперь ваш язык вилочковый.
Но куда идут сигналы? Когда ноцицепторы языка начинают сигнализировать о повреждении, эти сообщения передаются по тригеминоталамическому тракту, что означает, что болевой стимул исходит от лица. Если проследить этот путь, сообщения будут идти глубже в голову, затем опустятся в нижние отделы мозга, не доходя до позвоночника. Как мы видели ранее, это отличается от болевых сигналов, поступающих от тела, которые проходят через спинной мозг по спиногипоталамическому пути. Как следует из названий, оба пути направляются к гипоталамусу – двум серым шишкам, расположенным в центре головы, которые передают сенсорную информацию в остальной мозг. Мне нравится представлять их как почтовое отделение, где поступающая информация сортируется и отправляется в соответствующую область мозга для обработки. Болевые сигналы от лица и тела проходят через эти маленькие шишки и оттуда попадают в соматосенсорную кору в верхней части мозга, где обрабатывается большинство сигналов от тела.
3. Имя собеседника изменено в целях сохранения конфиденциальности.
Вот тут-то, дорогой читатель, и начинаются странности.
– Боль так интересна с точки зрения нейронауки, потому что она на сто процентов субъективна, – говорит Фоэлл.
Его ясный немецкий акцент трещит в трубке, слова вылетают со скоростью скороговорки. Скоро он заберет меня из аэропорта, чтобы отвезти на встречу с большим магнитом, но сегодня я говорю с ним об использовании фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) для изучения боли. Безусловно, боль не однозначна.
«Боль меняется в зависимости от обстоятельств». Задумайтесь об этом на мгновение. Боль носит косвенный характер. Я думаю об этом, когда завожу будильник, чтобы успеть на предрассветный рейс. Я думаю о боли, сидя под жестким, ярким светом в терминале аэропорта в 5:30 утра. Я снова думаю о боли, когда бегу на другой конец огромного терминала аэропорта Шарлотт, чтобы успеть на стыковочный рейс, и когда проливаю на руку горячий кофе в самолете. К тому времени, когда приезжает Фоэлл, чтобы забрать меня из международного аэропорта Таллахасси, я готова услышать, что он думает о боли.
Я обнаружила, что чувствую себя комфортно, говоря о реакции человеческого тела на боль, и хорошо знаю, когда речь идет о довольно простом процессе ноцицептивной боли. Есть стимул, затем электрические сигналы пробегают по аксонам, и информация об угрозе – будь то холодная вода или двадцать минут на скамье для порки – достигает мозга. Но как только мозг узнает об угрозе, он пытается взять контроль над ситуацией и руководить ею самостоятельно. Дальше все становится сложнее. Вот почему мне нужен доктор Фоэлл.
Я встречаюсь с доктором Фоэллом, он ждет меня у входа в аэропорт Таллахасси. Когда мы отъезжаем, я вижу, что на заднем сиденье его машины лежит отрезанная пластиковая рука в упаковке. Хэллоуин на следующей неделе, поэтому я не придаю этому значения, но позже узнаю, что рука предназначена для «фокуса с резиновой рукой». Резиновую руку кладут в коробку без крышки на столе, а настоящую руку человека кладут под нее в другую коробку. Обе руки поглаживают в течение некоторого времени, одновременно и с одинаковой скоростью. Через несколько минут мозг многих людей начинает воспринимать искусственную руку как свою. Веселье, а затем и фокус начинаются, когда вы внезапно ударяете карандашом по фальшивой руке и незадачливый участник вскрикивает.
Таллахасси – жаркий и яркий город, разительный контраст с прохладным и влажным горным воздухом, который я оставила позади. Толпы студентов медицинского колледжа идут вперед, их белые халаты говорят о том, что они соблюдают профессиональные ритуалы. Фоэлл покупает мне кофе в университетском кафетерии, и мы вместе сидим во дворе под открытым небом; южное солнце обжигает. Чувствуя, что солнечные лучи, провоцирующие развитие рака, обжигают мою непривыкшую кожу, я стыдливо говорю, что хочу в тень. Мы немедленно уходим. Фоэлл – очень гостеприимный человек, он охотно отвечает на вопросы и старается сделать мое пребывание во Флориде как можно более приятным. Тем временем я почесываю укус.
Я здесь, чтобы увидеть в действии аппарат фМРТ в университете Флориды, что поможет мне понять, как ученые изучают ощущение боли в мозгу. Я знаю, как нервная система предупреждает мозг об опасности, но что происходит, когда мозг начинает реагировать на угрозу? Что именно происходит? И откуда, черт возьми, мы это знаем?
Особенно меня интересует немецкое исследование, в котором группа ученых под руководством доктора Херты Флор использовала большие магниты, чтобы заглянуть в мозг мазохистов. В результате в 2016 году в журнале Journal of Pain была опубликована работа с восхитительным названием «Зависимость боли от контекста у мазохистов: участие теменного отростка и мозжечка», статья очень информативная и пугающая, и она меня потрясла. Флор и ее команда помещали мазохистов в аппарат МРТ, чтобы понять, как на самом деле работает мозг мазохистов.
Магнитно-резонансная томография использует метод эхо-лага для отражения магнитных импульсов от тела. Она определяет, что находится под поверхностью кожи, вычисляя разницу во времени, которое разная ткань приходит в соответствие с постоянным магнитным полем после магнитного возмущения. Функциональная магнитно-резонансная томография – особый вид МРТ, который используется для оценки активности мозга. Как объясняет Фоэлл, основное отличие аппарата фМРТ в том, что он определяет разницу в уровне кислорода в крови в любой части мозга.
Фоэлл подробно рассказывает, что это значит, повторяя, что аппарат смотрит на обмен кислорода, а не на кровоток; эти две вещи связаны, но это не одно и то же: для машины не важен объем крови в мозгу; важно, насыщена ли кровь кислородом.
– Мы думаем, что если одна область мозга очень активна, она будет потреблять больше кислорода, – говорит Фоэлл.
Повышение активности участка мозга означает увеличение потребности в кислороде, а значит, к участкам мозга, нуждающимся в нем, будет поступать больше богатой кислородом крови.
– Будет небольшая кривая, пока кислород расходуется и кровь перераспределяет молекулы кислорода. – (Кривая активации.) – Вы можете увидеть, что здесь много кислорода, а затем он как бы возвращается к исходному уровню. Это происходит постоянно, по всему мозгу, но сильнее в тех областях, которые активируются для конкретной цели.
Представьте, что вы смотрите на обычную старую стену. Подумайте о стене, о кирпичной кладке. Если затем вы возьмете в руки, скажем, комикс, в вашем мозгу активируются участки, которые нужны для обработки более сложных визуальных объектов. Даже если эта часть мозга все время была активна, чтение комикса требует больше работы, чем разглядывание стены, поэтому к активированному месту приливает больше крови, насыщенной кислородом. Именно этот прилив насыщенной кислородом крови может обнаружить аппарат фМРТ, который сообщает нам, какие области мозга более активны во время выполнения различных задач или при реакции на какие-либо события.
Например, при реакции на боль.
Где именно в человеческом мозге возникает и переживается боль? Это хороший (и сложный!) вопрос. Существует то, что исследователи называют «матрицей боли»; об этом упоминала Грейс в предыдущей главе.
Матрица боли – как ни странно, не хеви-метал группа и не порно-пародия на фильм сестер Вачовски, а описание областей мозга, которые, как было замечено, последовательно реагируют на ноцицептивную боль. К ним относится передняя поясная кора – часть мозга в форме воротника, которая отвечает за такие вегетативные функции, как кровяное давление и частота сердечных сокращений, а также играет роль в формировании внимания и эмоциональной регуляции; гипоталамус – как я упоминала, играет важную роль в отправке сенсорных сигналов в кору головного мозга; мозжечок – часть мозга внутри расселины, которая разделяет лобную долю (где живут наши исполнительные функции) и височную долю, область рядом с ушами, которая важна для памяти и языка. Как и многие другие структуры мозга, мозжечок участвует в решении множества задач, от любви до боли, от зависимости до эмоций, и, по-видимому, он важен для осознания настоящего момента. Учитывая это, вполне логично, что он активируется при болевых стимулах.
Однако идея матрицы боли является спорной, потому что зоны, отвечающие на болевые стимулы, реагируют и на другие виды раздражителей. При таком понимании получается, что матрица боли может отвечать за привлечение внимания к определенным местам и не является специфической для боли. Это не значит, что мы должны сбрасывать со счетов те области, которые светятся насыщенной кислородом кровью на старых фМРТ-сканах во время пыток, санкционированных учеными и одобренных добровольцами. Это просто значит, что выяснить значение этих ярко окрашенных участков – гораздо более тонкое и сложное занятие, чем просто определить и назвать ориентиры.
Это не первая дискуссия исследователей о том, где в мозгу располагается боль, отчасти потому, что у нас нет четких аналогов или простых методов, чтобы точно определить, что происходит, когда тело испытывает боль. Или когда мозг создает ощущение боли. Не поймите меня неправильно: мы многое знаем! В мире исследований боли есть много ученых, которые прилагают все усилия, чтобы собрать воедино эмоциональные и физические аспекты острых и хронических болевых реакций. Но мозг имеет очень сложное устройство.
Подумайте о том, как действует мозг, когда тело испытывает боль. Во-первых, он должен направить физическую реакцию: что делать? Убежать прочь? Остаться на месте? Закричать? Он также должен оценить, как эмоционально отреагировать на боль. Была ли она ожидаемой? Увеличит ли эмоциональная реакция шансы на выживание, как в зоне боевых действий или после укуса акулы? Нужно остановиться и зарыдать или начать действовать? Оценка уровня угрозы во время болевой реакции имеет решающее значение для выживания, как и сохранение спокойствия. Такие вещи, как любовь, стресс, тревога, – все они меняют наше восприятие боли. Даже простая возможность увидеть боль, причиняемую собственному телу, помогает уменьшить ее. (Внимательные читатели заметят, что повязка на глаза полезна для усиления болевых ощущений во время БДСМ-сессий.) Поэтому кажется естественным, что в мозгу нет единого центра активности при переживании боли, учитывая многогранную, скоординированную реакцию, которую мозг должен вырабатывать каждый раз, когда мы ударяемся пальцем ноги.
Это наводит меня на мысль о немецкой работе, где изучалась активность мозга сексуальных мазохистов. Учитывая наше понимание матрицы боли, важно помнить, что разные области мозга отвечают за разные аспекты боли. По словам Фоэлла, «солидное число областей [в мозгу] связано с обработкой боли, но некоторые из них, похоже, реагируют на разные аспекты боли». Учитывая, что разные области участвуют в обработке и создании ощущения боли, возможно, мозг сексуального мазохиста может отличаться от мозга человека, который не получает удовольствия от боли. Этот вопрос и стал предпосылкой для исследования Флор и ее команды: правда ли сексуальные мазохисты воспринимают боль иначе, чем другие люди? И если различия есть, то заключаются ли они в том, как мозг мазохистов обрабатывает сигналы физической боли, или в том, как их мозг эмоционально реагирует на эти сигналы?
– Соматосенсорная кора, к примеру, четко реагирует на физический болевой стимул, поэтому не обязательно ожидать, что ее активность изменится в зависимости от эмоциональной ценности боли, – говорит Фоэлл.
Говоря простым языком, эта область не должна реагировать по-разному у мазохистов и не-мазохистов, потому что физическая боль, которую они испытывают, одинакова; просто эмоциональная оценка должна отличаться.
Таким образом, если бы исследователи обнаружили различия у мазохистов и не-мазохистов в соматосенсорной коре головного мозга, можно было бы предположить, что одни обрабатывают боль не так, как другие. Но они обнаружили нечто иное. Две группы были похожи.
Вместо этого у мазохистов наблюдалась большая активность в верхней лобной извилине и медиальной лобной извилине – областях, которые участвуют в формировании памяти и познания. Ученые предположили, что базовая сенсорная обработка боли одинакова, но когнитивное понимание ее различно. То есть боль ощущается одинаково, но эмоциональная реакция мазохиста на боль отличается. Это согласуется со словами Грейс о том, что ожидание и ритуал являются важными компонентами опыта в целом. В статье также говорилось о том, что этот результат был вполне ожидаем, потому что у мазохистов есть опыт, о котором они вспоминают во время эксперимента, и благодаря этому ситуация кажется им знакомой. В целом наличие приятных ассоциаций с болью и сексом активирует мозг несколько иначе, чем их отсутствие. Всем испытуемым делали больно, пока они смотрели на разные изображения, некоторые были связаны с БДСМ. Мозг мазохистов выглядел несколько иначе во время этого теста.
Как объяснил мне Фоэлл, мозг мазохистов и не-мазохистов воспринимает болевые стимулы одинаково, а очевидные различия связаны с предыдущим опытом и знакомством с болью. То есть с точки зрения аппарата фМРТ многие основные процессы выглядят одинаково. Просто в мозгу мазохистов наблюдается дополнительная активация. Она может быть связана с желанием испытывать боль, которое возникает в результате того, что мы знакомы со страданиями ради удовольствия. Это немного похоже на вопрос про курицу и яйцо: мозг мазохиста может активизироваться сильнее, потому что он лучше знаком с ощущениями, но тем не менее это интересное наблюдение. Происходит что-то другое, но мы просто не знаем почему.
Конечно, в этом исследовании есть некоторые оговорки. Выборка была небольшой, всего тридцать два испытуемых: шестнадцать человек, которые сами себя называют сексуальными мазохистами, и шестнадцать подростков, которые таковыми не являются. Я также отмечу, что критерии для определения сексуального мазохизма были ужасно строгими. «Чтобы их включили в исследование, они должны были считать себя мазохистами с явным предпочтением роли подчиненного, и более пятидесяти процентов их общей сексуальности должно было проявляться в мазохистских действиях, связанных с болью (например, поркой), в реальной жизни, а не только в Интернете». Этот критерий исключает меня, автора книги о мазохизме, потому что я свитч, мне нравится причинять и получать боль, не говоря уже о том, что, если бы игра с болью проявлялась в пятидесяти процентах моей «общей сексуальности» (что бы это ни значило), меня бы госпитализировали в течение нескольких дней. Важно также учитывать, как трудно изучать людей с сексуальными желаниями, которые считаются запретными или пограничными. Большинство мазохистов, если они вообще подходят для исследования, вероятно, не очень хотят смотреть порно в аппарате фМРТ на глазах у ученых, так что в этом отношении пул участников исследования сокращается до определенного уровня сексуального эксгибиционизма.
Когда мы с Фоэллом заканчивали работу в подвале университета Флориды, а фМРТ-машина все еще продолжала фантомное сканирование, разговор, естественно, зашел о мазохизме. Его коллега, не пропустив ни одной реплики, подняла на меня глаза и улыбнулась. Она сказала, что клянется: острый соус помогает ей справляться с мигренью.
Связь между активацией мозга и ноцицепцией кажется простой, но она не лишена сложностей, в которые Фоэлл с удовольствием вникает. Когда он взволнован, его голос становится глухим, с небольшими громкими акцентами, что помогает разобрать сложную тему, которую мы обсуждаем. Он пытается объяснить разницу между тем, как тело сигнализирует о боли, и тем, что мы испытываем:
– Вот почему люди различают боль и ноцицепцию – потому что ноцицепцию можно измерить. Можно измерить активацию нерва, можно извлечь весь нерв, стимулировать его и количественно измерить сигнал и т. д. С болью все обстоит иначе. Если в теле есть ноцицепция, это еще не значит, что есть боль. Можно находиться в зоне боевых действий и быть серьезно раненным, но этого не чувствовать.
В качестве альтернативы человек может испытывать сильную тревогу, что вызовет у него сенсибилизацию к боли. То есть мозг будет создавать более интенсивные болевые ощущения, не имеющие ничего общего с ноцицепцией.
– Ноцицепция и боль, конечно, связаны друг с другом, – размышляет он. – Но они разные. Одно описывает систему электрической сигнализации в организме; другое – реакцию, которая направляется для ее обслуживания. – Фоэлл повышает голос от волнения: – И можно чувствовать боль без ноцицепции!
Стоп, простите, что?!
Докторская диссертация Фоэлла посвящена фантомным болям в конечностях.
– Конечности может не быть, нервные сигналы могут отсутствовать, а люди все равно чувствуют боль, – продолжает Фоэлл. – Это очень распространено и может происходить весьма ощутимо. Они говорят: «О, у меня болит мизинец!», когда руки нет уже двадцать лет. Это означает, что боль рождается в мозге, а ноцицепция – в другом месте, что делает ее странной и запутанной.
И это не единственная странность боли. Другие органы чувств, подвергаясь постоянному воздействию раздражителей, милостиво приглушают входные данные, что является проявлением доброты как на выставках металлических изделий, так и на парфюмерных прилавках. Это называется адаптацией; так наш организм отделяет сигнал от шума. Если сенсорный вход в мозгу не меняется, он становится менее важным, потому что мы примерно знаем, что происходит. Возьмем, к примеру, зрение. Наши глазные яблоки постоянно покачиваются, обновляя изображение, чтобы мы могли продолжать его видеть. У лягушек глаза не двигаются, и поэтому они видят только движение. Чтобы проверить это на практике, можно осторожно (через веки!) прижать глазное яблоко пальцами. Если вам удастся хорошо и мягко захватить глаз, прикройте другой глаз, держите голову неподвижно – и картинка перед вашими глазами исчезнет, потому что нет нового ввода. Это отличный трюк для вечеринки, который быстро заставит группу взрослых выглядеть чудаковато.
Наша боль – похоже, единственное чувство, которое работает не так.
– Если вы находитесь в ситуации, когда что-то причиняет вам легкую боль целый день, и вы начинаете думать, что тело адаптируется и чувство боли станет все меньше, то это не так. Наоборот, клетки-ноцицепторы станут более чувствительными к боли, – говорит Фоэлл. Это сразу вызывает в моей памяти долгие часы занятий балетом, проведенные в окровавленных пуантах, когда я чувствовала, как мои ноги, похожие на мясо для гамбургеров, все больше пульсируют. – Если говорить с точки зрения эволюции, это имеет смысл, потому что тело велит вам выйти из ситуации, постепенно повышая уровень тревоги.
Более того, сенсибилизация к боли может сделать нас нервными и ожидающими, когда мы попадаем в подобные ситуации. Фоэлл объясняет, что в какой-то момент вы станете чрезмерно чувствительны и можете почувствовать боль даже в ситуации, лишь смутно похожей на ту, в которой вам обычно причиняют боль. Тело учится предвосхищать боль. Если вы находитесь в ситуации, где вам уже причиняли боль, вы, скорее всего, испытаете больше боли, потому что ваш мозг знает о ее приближении и помнит об угрозе. Это противоположно адаптивной реакции всех остальных органов чувств, описанной выше. Но мозг создает боль. И она становится громче, когда вы ее игнорируете.
Но как же ноцицепторы? Как же неустанное влажное электричество человеческого тела, заботливо передающее сообщения и подающее сигналы тревоги? Как получилось, что большая часть того, что мы испытываем как боль, не имеет никакого отношения к ноцицепторам, но при этом тело полагается на них, чтобы начать процесс страдания? В отличие от относительно объективной природы других наших органов чувств (хотя были приведены убедительные аргументы в пользу того, что наши органы чувств менее объективны, чем нам хотелось бы) преобразование ноцицепции в ощущение боли в высшей степени субъективно. О ноцицептивных болевых путях приятно говорить, потому что мы достаточно хорошо их понимаем; мы можем вызвать их, наблюдать и измерять. Они относительно просты и механически понятны, и их можно хорошо обобщить. Я могу наблюдать, как язык разрезают пополам, и я могу четко представить сигналы, идущие по своим каналам. Я могу говорить о том, какие нервы работают и как быстро эти сигналы доходят до места назначения. Но чего я не могу сделать, так это рассказать о том, как боль ощущается человеком, который ее испытывает. Если ноцицепция не является индикатором боли, то что же тогда влияет на наше восприятие боли?
– Все, что как бы… – Голос Фоэлла прерывается, что говорит о беспорядке, присущем моему вопросу. – Физическое или физиологическое возбуждение или эмоциональное состояние влияют на восприятие боли. Сексуальное возбуждение, нахождение в зоне боевых действий, влюбленность, просто эмоциональная заинтересованность в чем-то – все это повышает болевой порог.
Будучи эмоциональной, стремясь к сильным ощущениям, я немедленно покрываюсь неприятными мурашками при этом признании. (Это восхитительно.)
Влажное электричество боли невероятно, но это только начало. Боль физиологична, но она также личная, интимная, изменчивая. Фоэлл говорит, что, если дать эмоционально или сексуально возбужденному человеку объективный болевой стимул, например, удар током или такой же интенсивности тепловой лазер, он будет воспринимать меньше боли и демонстрировать более высокий болевой порог, чем человек, не находящийся в таком состоянии; их мозг будет показывать им различные виды страдания в зависимости от того, как они себя чувствуют.
Мне нравится исследование доктора Херты Флор, потому что оно иллюстрирует, насколько запутанной и сложной является боль в мозге. Причина, по которой я так заинтересовалась ее статьей, приехала во Флориду, чтобы покопаться в мозгу Фоэлла, позволила лаборанту провести транскраниальную магнитную стимуляцию, заставившую мою руку дергаться, провела многие часы, посещая нейропсихологические форумы, именно в том, что мозг – это хаос! Три килограмма мягкой, жирной слизи, управляющей всем этим электрическим шоу. Каким-то образом мы, мазохисты, можем перехватить прямой и понятный сигнал ноцицепции, обработать его в наших желеобразных ногах и преобразовать все это в бесчисленное множество вкусов боли и вознаграждения, которые являются чем-то большим, чем просто «ой».
Таким образом, я стала думать о своем опыте мазохизма как о биохакинге: способе использовать электрохимию тела целенаправленно для получения определенного опыта. Что-то в моей реакции на боль отличается, будь то врожденное или выученное (или и то, и другое). Это позволяет мне создать для себя маленький очаг радости, искусственную разрядку, будь то бег на несколько километров в гору, татуировка или пощечина. По-настоящему интересно то, что суть реакции на боль настолько схожа: в общем, наше тело работает более или менее одинаково во всех случаях. Но наша эмоциональная реакция на боль? То, как мы как личности переживаем боль? Это то, что сильно варьируется от человека к человеку, от момента к моменту. Согласие, настроение, желание, тревога, память, ожидание, любовь – все эти вещи влияют на конечный результат ноцицепции, «влажного электричества» боли. Итак, многие люди специально совершают действия, чтобы ощущить себя плохо, чтобы потом им стало лучше; как только я начала искать эту закономерность, я увидела ее повсюду.
Я думаю о субъективности боли в контексте мазохизма, и голова идет кругом. Как желание страдать может изменить интерпретацию мозгом самого этого действия? Уменьшается ли боль, потому что я просила о ней, или же увеличивается, потому что у меня повышенная чувствительность к тому, что из меня выбивают дерьмо ради смеха? Тело хочет защитить себя, и кавалькада процессов, происходящих после травмы, многочисленна: поток эндорфинов, всплеск адреналина. За чем-то ужасным следует что-то лучшее.
К концу видеоролика с разрезанием языка лицо женщины превратилось в бледную луну, из которой льется пунцовая жидкость. Пальцы в перчатках с трудом удерживают ее дергающийся язык, марля, поднесенная к новому разрезу, стремительно темнеет. Руки зажимают ей рот, она уже пытается говорить. Слюна и горячая кровь стекают с ее лица – кажется, сразу в мусорное ведро. Девушка снимает марлю с раны, затем делает глоток воды из красного пластикового стаканчика. Она размазывает жидкость по рту и на мгновение поднимает глаза, извиваясь, как щенок, аккуратно ополаскивая полость рта. А потом, в самом конце, она улыбается.
The free sample has ended.